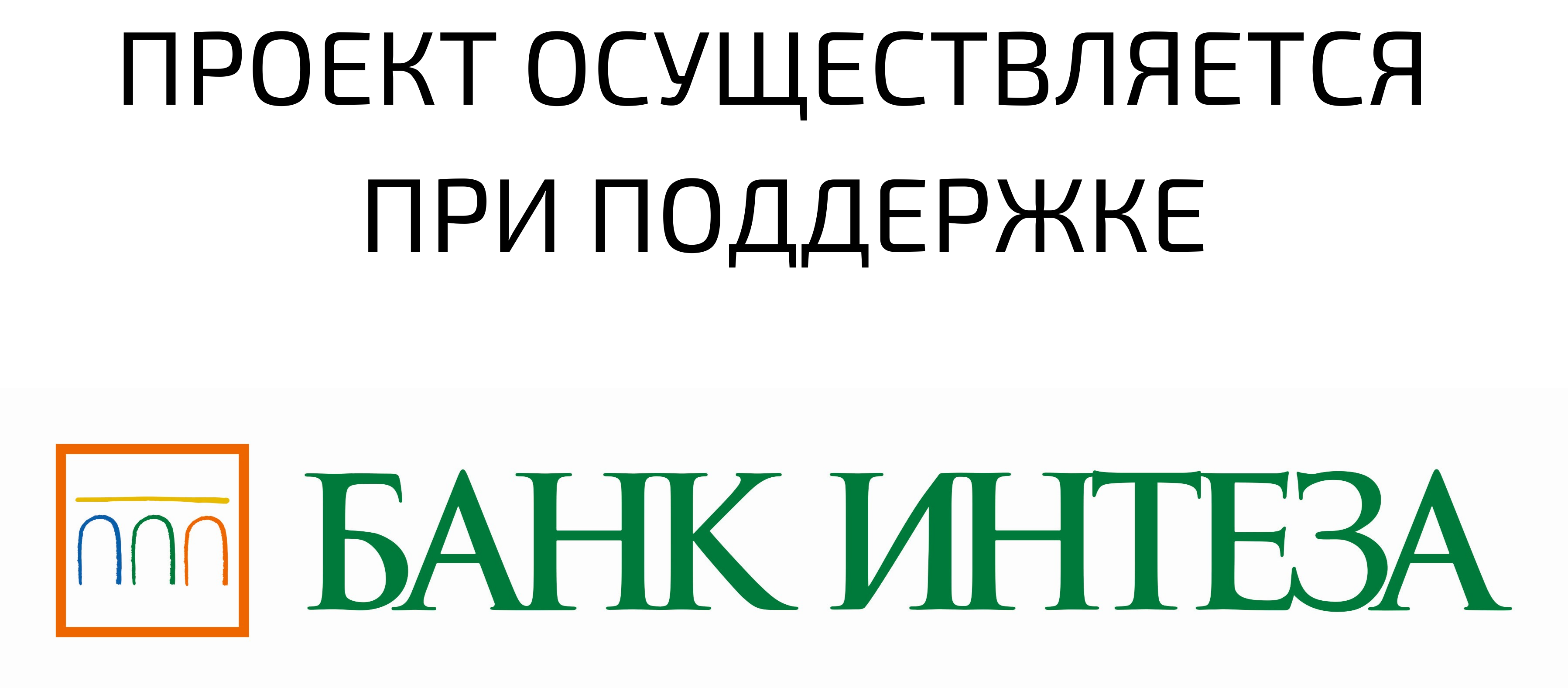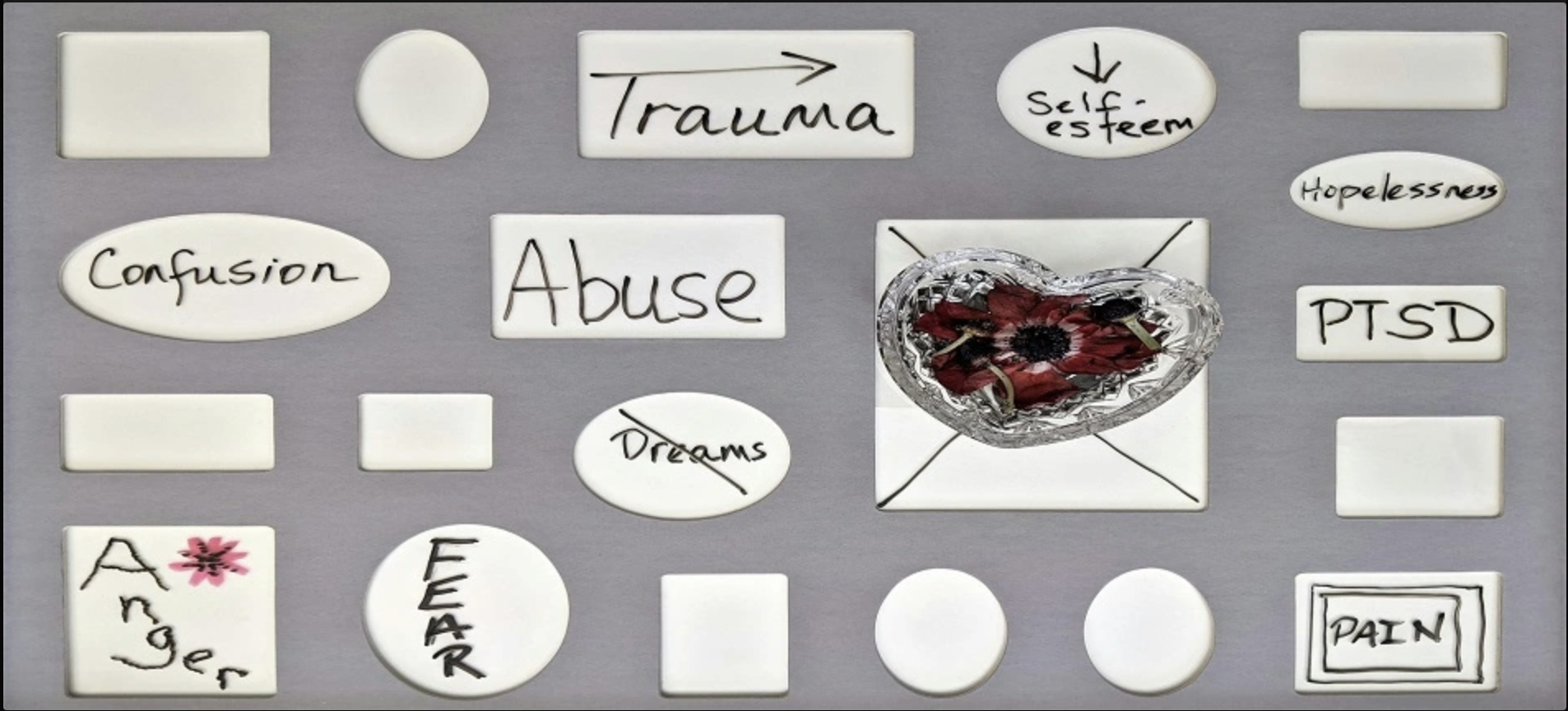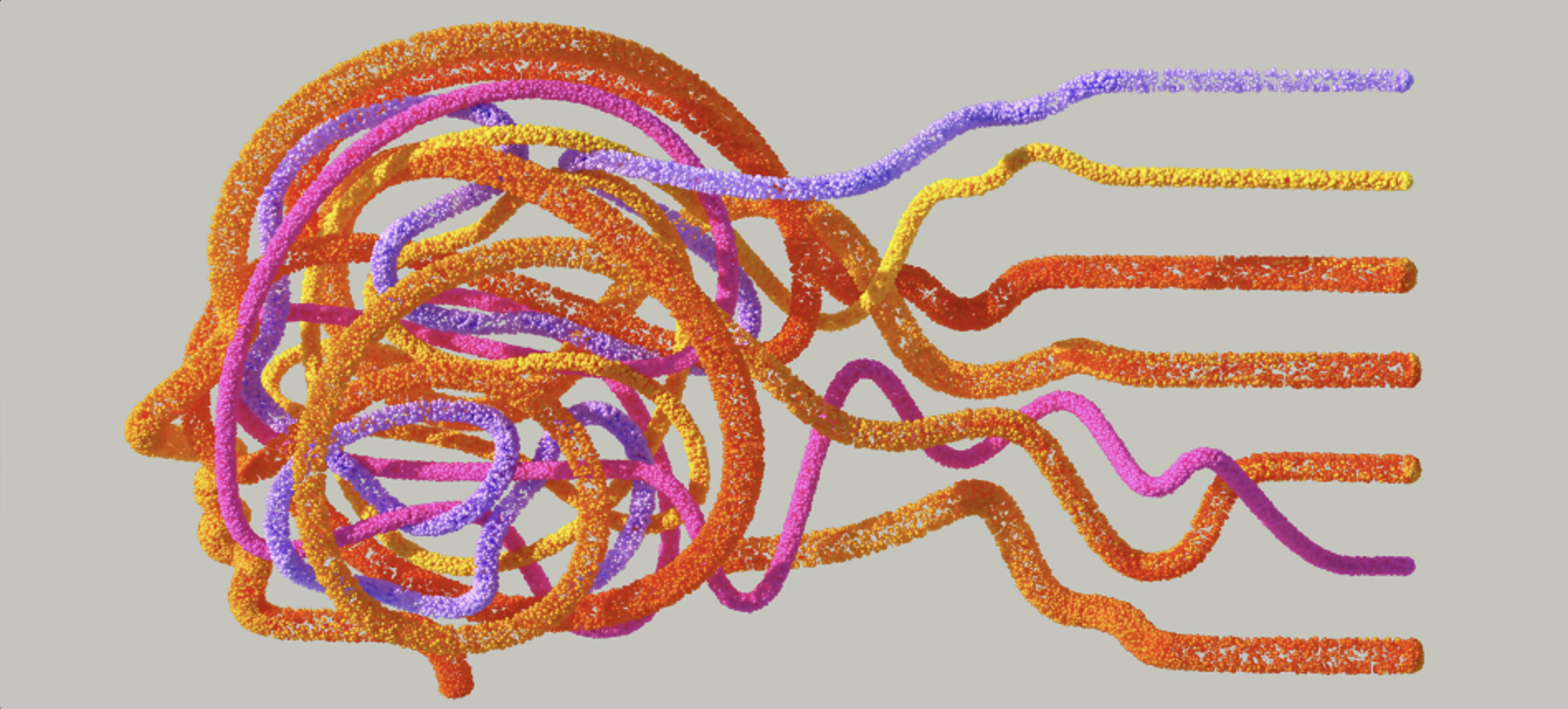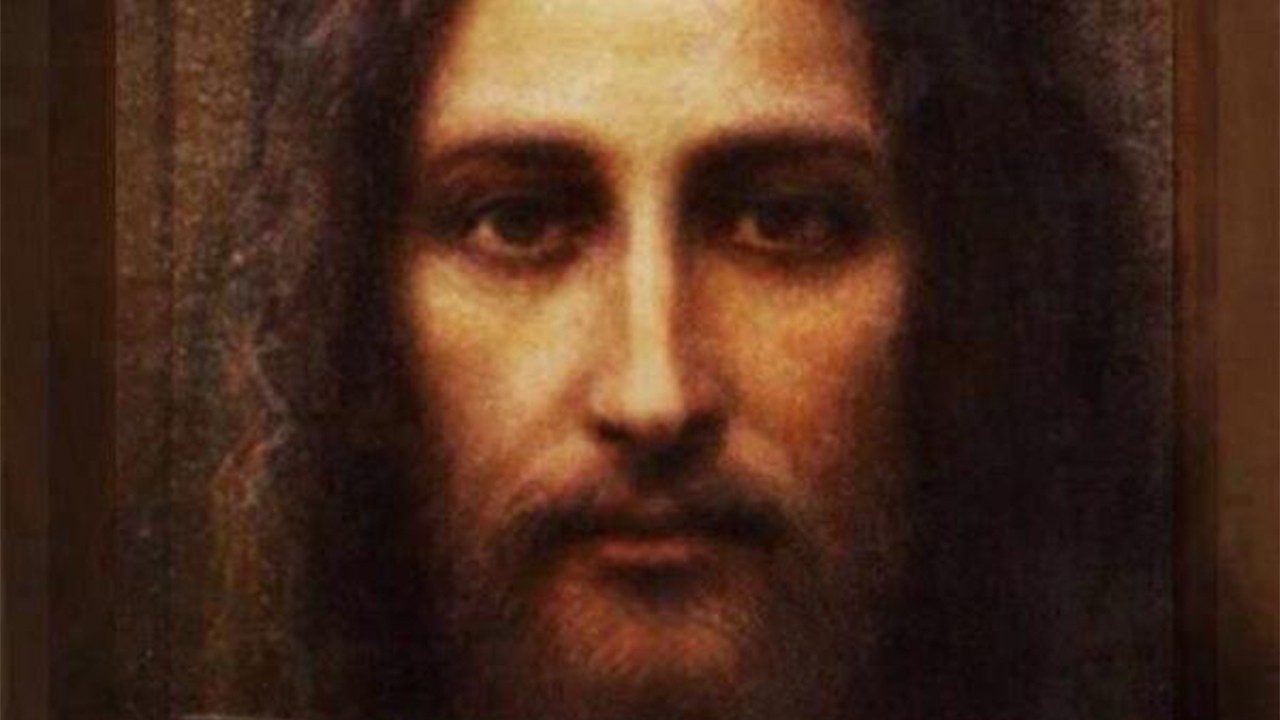Джованни Куччи SJ
На этот год приходится 80-летняя годовщина публикации Бытие и ничто Жана-Поля Сартра (1905–1980). Сартр, плодовитый мыслитель, отличавшийся широтой интересов, известный также вкладом в области литературы и театра, глубоко повлиял на культурную среду послевоенных лет — не только французскую, — в том числе и в социо-политическом плане. В богатом и разностороннем разборе труда статья останавливается, в первую очередь, на онтологической тематике и взаимоотношениях: в эссе человек представлен как существо, которое никому ничего не должно за собственное бытие, чья свобода рождается из отсутствия Бога. Утверждения, поражающие своей парадоксальностью и требующие обсуждения с теоретической и этической позиций.
***
В этом году исполняется 80 лет со дня публикации Бытие и ничто, важнейшего философского труда Жана-Поля Сартра (1905–1980)[1]. Сартр, плодотворный мыслитель, с широким спектром интересов, известный также вкладом в литературу и театральное искусство, глубоко повлиял на культурную атмосферу послевоенных лет не только во Франции и не только в политическом и социальном аспектах. Он всегда настаивал на том, что интеллектуал призван меряться силами с проблемами своего времени, стараясь вести диалог с простым народом; в этом смысле можно рассматривать его многочисленные выступления на тему войны в Алжире, восстаний в Венгрии и Чехословакии, во время майских событий во Франции, положивших начало митингам 1968 года по всей Европе, равно как и некоторые громкие диссидентские поступки (например, отказ от получения 22 октября 1968 года Нобелевской премии по литературе, объясненный нежеланием скомпрометировать свою свободу мышления). В академическом плане, еще будучи студентом университета, он дистанцировался от чрезмерно абстрактной и концептуальной философской мысли (примерами которой можно назвать Гуссерля и Хайдеггера, которыми он, тем не менее, восхищался и на чьи разработки опирался в феноменологическом подходе), предпочитая образ мышления ангажированного интеллектуала (engagé), внимательного к проблемам повседневной жизни.
Бытие и ничто старается заложить основы всего этого, хотя построение труда, конечно, не представляется легким: речь идет о внушительном, сложном для прочтения тексте, оставшимся незавершенным, в котором сделана попытка представить главные вопросы философии. В нем переплетаются предыдущие интересы и изыскания автора, в первую очередь, по теме воображения, эмоций и психологии. Рассмотрим содержание по основным главам.
Изучение бытия
Книга пронизана разными темами, не всегда сочетающимися друг с другом, отражающими разнообразный опыт автора. В первую очередь — урок феноменологии, о чем говорится и в подзаголовке труда. Изучение бытия отсылает к исследованию сознания, что ведет автора к слову, показывая тесную корреляцию сознание-мир. В объяснении заметно влияние Феноменологии духа Гегеля: действительно, такая связь характеризуется противопоставлением мира сознанию. Именно это самая знаменитая, оригинальная и обсуждаемая часть работы: онтологический характер феноменологического предложения автора. Бытие имеет два фундаментальных аспекта: бытие вещей и бытие сознания, которые Сартр называет бытие-в-себе и бытие-для-себя, соответственно.
Бытие-в-себе — все, что показывает сознание. Сартр характеризирует это в совершенно противоположных сознанию терминах: «Бытие непроницаемо для самого себя именно потому, что наполнено самим собой» (32). Кроме того, бытие-в-себе автономно и не было сотворено: «Если оно существует перед Богом, значит, что оно само себя поддерживает, следовательно, не сохраняет в себе ни малейшего следа божественного творения» (ivi).
Бытие-для-себя обладает двумя фундаментальными качествами: преднамеренностью, то есть оно открыто для другого (in—tentio); и самосознанием, оно есть присутствие перед самим собой, «сознание существования» (18). Второе качество вводит его в отношения с ничто. Ведь сознание, чтобы быть присутствующим для себя самого, дистанцируется, отрицая себя, и тем самым отличается от себя, раздваиваясь: сознание означает свести к нулю бытие-в-себе (néantiser), ввести в бытие разрыв ничто (ср. 59). Отсюда выводится бином, дающий название книге, о бытии и о ничто, где одно обязательно отсылает к другому. Сознанию присуще, отделяясь от бытия, производить ничто: в-себе, как отмечалось, непроницаемо и заполнено. Важное следствие этого дистанцирования — сознание, отрицая установившееся значение, самостоятельно и свободно: если бы Бог существовал, это было бы невозможно, поскольку сознание зависело бы от Него. То есть атеизм — предпосылка человеческой свободы: полной, абсолютной свободы, без границ и критериев. Таково онтологическое положение человека, которого он не в состоянии избежать: «Мы — выбирающая свобода, но не выбираем быть свободными: мы приговорены к свободе» (628).
Свобода
Свобода — отличительная черта человека, она дает возможность планировать собственное существование и, в отличие от бытия-в-себе, действовать: «Не бывает непреднамеренного действия. Ураган — не действие, а происшествие: точно так же происшествие — все, что человек совершает непреднамеренно. Поэтому действовать преднамеренно — значит полагать себе конечную цель»[2].
Но как задействовать личную свободу? Иначе говоря, какова цель человека? Для Сартра ответ на этот вопрос исключительно отрицательный. Действие сознания — обнулить бытие-в-себе; это отрицание бытия именно то, что его составляет; поэтому нет никакого другого критерия его действию, кроме использования свободы, как идеала, к которому следует стремиться. Именно потому что Бога нет, человек никому не обязан своим существованием, а делает его возможным, пользуясь свободой. В этом смысле свобода предваряет сущность. То есть для человека нет причины действовать, если только не само действие; он своим выбором созидает себя самого. Все, что он сделал, имеет смысл только если он решает придать его прошлому, встающие на этом пути препятствия, — условие для реализации его замысла — проекта, всегда начального, потому что человек, восставая из ничто, из отрицания бытия, ощущает себя неполноценным, желает достичь полноты, которую Сартр называет «ценностью», но безуспешно, поскольку может существовать лишь как отсутствие бытия[3].
Отсюда состояние экзистенциальной тревоги: сознание стремится к чему-то недостижимому; оно может только стремиться к ценности, не может иначе, но при этом не может ее достичь, поскольку та вне предоставленного в ее распоряжение мира. Сартр называет эту полноту «Богом», но, коль скоро Бога нет, задача человека — стремиться стать Богом, но безуспешно. По-настоящему мучительная ситуация описана красноречивым образом: «Можно напомнить об осле, который тащит за собой повозку и пытается дотянуться до морковки, подвешенной к концу палки, прикрепленной к оглобле. Каждая попытка осла схватить морковку имеет следствием продвижение всей упряжки и самой морковки, остающейся всегда на том же самом расстоянии от осла. Таким образом, мы бежим за возможностью, заставляющей появиться сам наш бег и являющейся не чем иным, как бегом, и этим самым она определяется как недостижимая. Мы бежим сами к себе и являемся поэтому бытием, которое не может с собой воссоединиться. В этом смысле бег лишен значения, поскольку граница никогда не дана, но изобретается и проектируется в той степени, в какой мы бежим к ней» (251 сл.).
Отсюда следует неутешительное заключение анализа Сартра: «Человек оказывается тщетной страстью», богом, который не может быть богом (682).
Другие
Сознание связано не только с вещами, но и с другими сознаниями. Их следует признавать не концептуально, а экзистенциально, отталкиваясь от ощущения, что нас видят, и от эмоционального резонанса, вызываемого этим взглядом: резонанса, проявляющегося, в первую очередь, в стыде. Нельзя стыдиться, будучи в полном одиночестве: «Стыд по природе оказывается признанием. Я признаю, что я являюсь таким, каким другой меня видит» (272). Взгляд, будучи неосязаемым, подтверждает, что другой не может быть всего лишь телом; другой, тот, кто смотрит на меня, открывает свое подчиненное бытие, но своим взглядом стремится сделать из меня объект, бытие-в-себе: «Предположим, на меня смотрит другой: в это мгновение я ощущаю себя совершенно отчужденным и принимаю себя таким. Вверх одерживает третий. Если он на меня смотрит, я ощущаю себя такими, как они (подчиненным им) через собственное отчуждение. Этот их, как мы знаем, стремится к безличному да. Под объективизирующим взглядом третьего исчезает мой проект, который я воспринимаю, как исчезнувшую возможность» (122).
Отсюда встреча как неизлечимый исход отношений, понимаемых в терминах борьбы за утверждение власти каждого субъекта в отношении другого, чтобы не был расхищен собственный мир и, прежде всего, его центральное место: «Сущность отношений между сознаниями — не Mitsein, а конфликт» (493). Полемическое заключение по отношению к Хайдеггеру (приведено его известное немецкое выражение) и близкое к гегелевскому анализу диалектики отношений раба и хозяина в Феноменологии духа.
Все возможности, задействованные во взаимоотношениях с другим, обречены на провал, равно как оказывается провальной всякая возможность отношений. Ведь тогда пришлось бы усомниться в абсолютной амбиции свободы: свободы, оказывающейся синонимом полного одиночества. Путь любви также оказывается иллюзорной реальностью: «Любовь является противоречивым усилием преодолеть фактическое отрицание, сохраняя полностью внутреннее отрицание. Я требую, чтобы другой любил меня, и делаю все возможное для реализации своего проекта; но если другой меня любит, он в принципе обманывает меня своей любовью; я требовал от него, чтобы он основал мое бытие в качестве привилегированного объекта, утверждаясь как чистая субъективность передо мной» (461). Другими словами, любовь как связь двух субъектов, двух инаковостей невозможна; можно остаться субъектами (бытие-для-себя) лишь сведя другого к объекту, защищая тем самым собственное абсолютное центральное место[4].
Но присутствие другого нельзя свести к собственным категориям: другой по-прежнему остается рядом как осуждение моего собственного желания быть Богом. «Ад — это другие»: известная реплика, вложенная Сартром в уста одного из героев театральной пьесы За закрытыми дверями.
Некоторые замечания
Бытие и ничто — невероятно богатый и злободневный труд, ставший отражением эпохи, который странным образом оказался забыт после смерти автора. Многие вопросы заслуживают более широкого разбора, нежели дано в кратком предисловии: прежде всего, свобода, знак достоинства человека как unicum по сравнению с другими существами; телесность; чувства; отношения; жажда абсолютного. В освещении столь множественных тематик, к сожалению, отмечалась склонность к экстремизму: сочинение захватывает внимание, провоцирует, но одновременно вызывает немалую озабоченность, почему, возможно, и оказалось стремительно подвергнуто забвению.
Видное место отведено онтологическим построениям, цель которых — оправдать разные тезисы книги. Как мы видели, для Сартра человек появляется самостоятельно, он есть causa sui: именно это основа его свободы, рождающейся из отсутствия Бога, утверждение, возвращающееся, в том числе, в более поздней работе[5]. Однако все это, в конечном счете, может свестись к игре слов. Как отмечает Адриано Баузола, такая гипотеза «невозможна, так как предполагала бы реальность сознания — для воспроизводства — до воспроизведения себя, то есть до бытия»[6]. В этом случае человек никогда бы не приобрел опыт смерти, поскольку своим существованием был бы обязан себе самому.
Категорию «ничто» Сартр вводит как нечто существующее: бытие-для-себя возникает из отрицания бытия-в-себе, из отдаления от него. Но и это способ бытия, как признавал еще Платон, исправляя простое противопоставление бытия и небытия у Парменида; небытие возможно, о чем свидетельствует реальность, понимая небытие как ничто и как иной способ бытия[7].
Действительно, в Бытие и ничто и бытие-в-себе, и бытие-для-себя рассматриваются как нечто; оба описаны как бытие, и человек контактирует с обоими посредством сознания и самосознания. Именно разговор о связи в понятиях сведения к ничто, о бытии-в-себе как о другом усиливает анализ. Но сам Сартр признает, что это ничто на самом деле не существует: «Парадокс не в том, что существуют вещи сами по себе, но в том, что нет ничего, кроме них. Что поистине немыслимо, так это пассивное существование» (22). Тем не менее пассивное существование осмысляется и находит выражение в словах. Что означает: бытие-в-себе не просто сводится к сознанию, к бытию-для-себя, но обладает собственным существованием и самостоятельностью, собственной объективностью. Это исповедание реализма, хотя Сартр избегает этого определения, так как оно опровергло бы амбицию сознания быть источником всего: «Человеческое сознание не стоит у истока вещей, но находится среди них, как признает сам Сартр, и как признавал Хайдеггер. Следовательно, сознанию придется выработать метафизику, отталкиваясь от вещей, среди которых оно находится, и не воображая себе, что было бы, если бы оно стояло у истоков»[8].
И в связи с диалектикой ты-сам/другой отношения нельзя описывать исключительно в понятиях конфликта: такой исход возможен, но он подтверждает не истину, а, скорее, неподлинность сознания, которое по определению всегда «сознание чего-то», точка зрения реальности, перспектива, но ни в коем случае не абсолютная тотальность. Именно таким, а не другим оно показано на страницах, посвященных диалектическому, проектирующему характеру бытия-для-себя, делающим его сознанием, а не чем-то статичным, способным менять точку зрения. Это показывает и смысл угрозы, по мнению Сартра, могущей исходить от другого; другой приходит сказать, что я — не центр всего, меняет измерения этой нереальной амбиции, показывая присутствие возможного иного взгляда на реальность: «Взгляд другого можно признать таким только по аналогии и аналогия содержит в себе как идентичность, так и отличие. Отличие, в свою очередь, может посягать на идентичность, но может также позволить ей проявить себя: может стать ее проектом или проектом взглянуть глазами другого»[9].
Мы знаем, что смотреть можно очень по-разному, и нас могут видеть иначе, что ведет в итоге к разным взаимоотношениям: к конфликту, но и к признанию ценности, знакомству, коль скоро никто не может смотреть на себя самого. Сартр сам, как уже сказано, исключал, что сознание вообще способно считать себя цельностью; скорее можно говорить, что это — нереалистичная амбиция сделать отношения невозможными, изолировавшись ото всего и став «несчастным сознанием», если вспомнить другое известное выражение Гегеля.
Свобода без морали?
Как мы уже заметили, свобода занимает центральное место в сочинении, которое ее прославляет в очень мощных пассажах, представляя как образ бытия сознания[10]. Но склонность французского философа к экстремизму потворствует великой безысходности. Если у свободы действительно нет иного критерия кроме себя самой, можно заключить, что любой ее выбор оправдан. Что в итоге ведет к релятивизму и нигилизму? Сартр не разделяет это заключение и совершенно очевидно дистанцируется от него. Как он пишет в другой работе: «Экзистенциалисты, напротив, обеспокоены отсутствием Бога, так как вместе с Богом исчезает всякая возможность найти какие-либо ценности в умопостигаемом мире. Не может быть больше блага a priori, так как нет бесконечного и совершенного разума, который бы его мыслил. И нигде не записано, что благо существует, что нужно быть честным, что нельзя лгать; и это именно потому, что мы находимся на том уровне, где живут одни только люди. Достоевский писал, что «если Бога нет, то все дозволено». Это — исходный пункт экзистенциализма»[11].
С этой отправной точки Сартр понимает мораль, основывая ее на ответственной свободе, способной тем самым взять на себя ответственность за собственные поступки, не обвиняя других (обстоятельства, здоровье, традиции). Критерий аутентичности, безусловно, важен, но неполон, поскольку отрицает другой великий столп нравственной жизни: целесообразность[12]. Недостаточно свободного выбора для подлинного бытия; многие диктаторы и угнетатели действовали свободно, но это не делает их подлинными личностями и тем более не уменьшает тяжести поступков, совершенных вследствие самостоятельного выбора. Тем самым можно оправдать любое решение, ведь нет никакого внешнего, объективного критерия того, что в свете событий двух последних столетий вызывает наибольшее беспокойство. Остается неудовлетворенным, в первую очередь, требование справедливости со стороны множества жертв, забытых историей.
Зачем, наконец, быть подлинным? Если у свободы нет критериев вне собственного воплощения, что можно сказать о том, кто планирует не утруждаться, а предпочитает положиться на течение событий и жить пассивно? И, в первую очередь, кто имеет власть исправить его?
В последних строках книги Сартр погружается именно в моральные проблемы, предполагая разобрать их в следующей работе, которая так и не увидела свет; наброски есть в некоторых посмертно опубликованных сочинениях (Cahiers pour une morale, 1945–1947; и Vérité et existence, 1948). Но знаменательно, что там и тут, в Бытие и ничто, очевидна польза сомнения. В коротком, но красноречивом абзаце, говоря о безразличии, ненависти и садизме в отношении другого, Сартр уточняет: «Эти наблюдения не исключают возможности морали освобождения и спасения. Но ее можно достичь только в конце радикального обращения, о чем мы здесь говорить не можем» (465; ср. 696). Сартр не объясняет, что он подразумевает под «радикальным обращением»; тем не менее стоит отметить, что он завершает свою работу, признавая, что произвол — всего лишь одна из множества возможностей в распоряжении человека, тем самым открываясь поиску спасения[13].
Философия, укоренная в жизни
Сартр видит в существовании Бога отрицание человеческой свободы — свободы, которая не признает границ, несмотря на то, что люди — исторические, биологические, социальные существа. Видение, которое французский философ, несмотря на трагические превратности истории, не пожелал подвергнуть сомнению.
Как замечает сам философ (например, анализируя сочинение Флобера), можно понять мысль автора, обратившись к его биографии. Сартр оставил нам свидетельство о своем детстве в книге Слова, безусловно, одной из самых выдающихся в повествовательном плане. Жан-Поль потерял отца в два года и был отдан под опеку дедушке, Шарлю Швейцеру, родственнику теолога и врача Альберта (тот приходился Сартру двоюродным дядей). Философ описывает себя как ребенка, росшего среди книг еще задолго до того, как научился читать, свободно передвигавшегося по дому и окруженному всеобщей любовью. Первые прочитанные в раннем возрасте книги погрузили его в мир фантазии, который он переживал как реальность, — в мир, где он был безусловным главным героем: «Я был первым, несравненным, на собственном летающем острове: и оказывался на последнем месте, когда от меня требовали подчинения общим правилам»[14]. И сочинительство довольно быстро оказывается его миссией: «Долгое время я принимал перо за шпагу: теперь признаю наше бессилие. Неважно: я пишу и буду писать книги; они нужны; и служат, несмотря ни на что. Культура не спасает ничего и никого, не оправдывает. Но она — плод человека, его проекция, его признание самого себя; только это критическое зеркало показывает ему его образ»[15].
Другой аспект, ранящий маленького Жан-Поля, — полное отсутствие траура по его отцу Жану-Баптисту, которого ему не было суждено узнать. Вместо сожалений ребенок воспринимает уход отца как обязательное условие для полной свободы, которой он смог воспользоваться; для него отец, в духе фрейдизма, был лишь судьей желания: «Смерть Жана-Батиста сыграла величайшую роль в моей жизни: она вторично поработила мою мать, а мне предоставила свободу. Останься мой отец в живых, он повис бы на мне всей своей тяжестью и раздавил бы меня. По счастью, я лишился его в младенчестве»[16].
Если «отцеубийство» как обязательный акт самоутверждения одно из первых воспоминаний детства, то нечто подобное можно утверждать и в отношение выбора атеизма. Хотя в той же книге Сартр рассказывает эпизод, когда, спрятав коврик, сожженный ради игры, он ощущает на себе обвиняющий взгляд Бога, от которого нигде не мог спрятаться. В ярости он начинает проклинать Его: «Никогда на меня не смотри […] Сегодня, когда мне говорят о Нем, я с огромным весельем говорю: […] „Пятьдесят лет назад, без злого умысла, без той ошибки, без того инцидента, который нас отдалил, наверное, что-то между нами и было бы”. Но ничего не было»[17].
Однако, возвращаясь к его самому пространному труду, что-то там было. В 1940 году, именно вынашивая замысел Бытие и ничто, Сартр оказался узником в Трире. В преддверии Рождества, по приглашению двух отцов-иезуитов, он пишет пьесу, посвященную Деве Марии, Бариона, сын грома, о которой богослов Рене Лорентин скажет: «Сартр, отъявленный атеист, лучше, чем кто-либо, кроме Евангелий, помог мне увидеть тайну Рождества».
Текст был опубликован не для продажи в 1962 году с предисловием Сартра, где он настаивал на своей неизменной атеистической позиции[18]. Но на тех страницах поэтически описано его изумление при виде Бога-Младенца, настолько похожего на мать, того желанного и неприемлемого Бога, при этом столь нежного и близкого человеку. Здесь сквозит так никогда и не заглушенное желание быть подобным Богу — желание, которое, хотя и с объяснимыми умолчаниями, он выразил в заключительной части Бытие и ничто: «Поэтому можно сказать… что человек есть бытие, которое проектирует быть Богом. Бог, ценность и высшая цель трансцендентности, представляющий постоянную границу, исходя из которой человек объявляет о себе, чем он является. Быть человеком — значит стремиться к бытию Бога, или, если хотите, человек, в сущности, есть желание быть Богом» (680).
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] См. J.-P. Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1943 (Сартр Ж.-П., Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. — М.: Республика, 2000. — 639 с. — (Мыслители XX века). В статье номера в скобках указывают на страницы итальянского издания (L’essere e il nulla, Milano, il Saggiatore, 2014).
[2] S. Vanni Rovighi, «L’essere e il nulla» di J.-P. Sartre, in Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 40 (1948/1) 83.
[3] «У ценности двойной характер, который моралисты объясняли совершенно неполноценно: быть безусловно и не быть. Ценности присуще бытие: но это нормативное существование не обладает именно бытием как реальностью. Ее бытие — бытие ценности. То есть бытие ценности, в силу ценности, — бытие того, что не обладает бытием. Следовательно, понять ценность представляется невозможным» (Ж.-П. Сартр, Бытие и ничто, cit., 134).
[4] Как отмечает Адриано Баузола: «Очевидно, что [у Сартра] мы — не интерсубъективное сознание, ни тем более не новое бытие, превосходящее и поглощающее собственные части как синтетическое целое, по образу коллективного сознания у социологов. Мы понимается как особенное сознание» (A. Bausola, Libertà e relazioni interpersonali. Introduzione alla lettura di «L’essere e il nulla», Milano, Vita e Pensiero, 1989, 120).
[5] «Атеистический экзистенциализм, представителем которого являюсь я, более последователен [чем атеизм XVIII века]. Он учит, что, если даже Бога нет, то есть по крайней мере одно бытие, у которого существование предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек, или, по Хайдеггеру, человеческая реальность. […] Таким образом, нет никакой природы человека, как нет и Бога, который бы ее задумал» (J.-P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, Milano, Mursia, 1965, 54).
[6] A. Bausola, Desiderio, amore e valori. Lo sguardo di Sartre sulle relazioni umane, Milano, Mimesis, 2023, 54.
[7] «Поэтому, как кажется, противопоставление части природы иного бытия природе бытия, друг другу противоположных, есть, если позволено так сказать, нисколько не меньшее бытие в себе, чем само бытие, поскольку оно не обозначает противоположного бытию, но лишь указывает на иное по отношению к нему» (Платон, Софист, 258а). Комментарий к этому фундаментальному философскому утверждению см. в G. Reale, Per una nuova interpretazione di Platone. Rilettura della metafisica dei grandi dialoghi alla luce delle «Dottrine non scritte», Milano, Vita e Pensiero, 1987, 359–379.
[8] S. Vanni Rovighi, «L’essere e il nulla» di J.-P. Sartre, cit., 88.
[9] V. Melchiorre, Metacritica dell’eros, Milano, Vita e Pensiero, 1977, 52 s.
[10] «Свобода не имеет сущности. Она не подчинена никакой логической необходимости; именно о ней нужно бы сказать то, что говорит Хайдегтер о Dasein» (J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, cit., 504).
[11] Id., L’esistenzialismo è un umanismo, cit., 40.
[12] Cfr G. Cucci, Le virtù cardinali. I pilastri della vita buona, in Civ. Catt. 2022 III 219–231.
[13] Cfr G. Fornero — S. Tassinari, Filosofie del Novecento, Milano, Mondadori, 2002, 700.
[14] J.-P. Sartre, Le parole, Milano, il Saggiatore, 1964, 55.
[15] Ivi, 175.
[16] Ivi, 17.
[17] Ivi, 73.
[18] Cfr M. Contat — M. Rybalka, Les écrits de Sartre, Paris, Gallimard, 1970, 565–633.