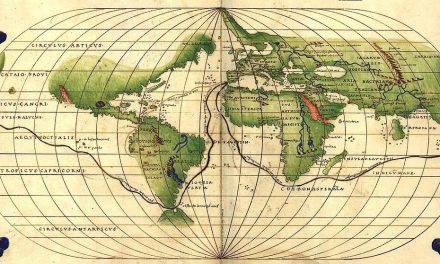Джованни Куччи SJ
Вот уже долгое время эпистемологические размышления пересекаются с этикой и наоборот, ставя под вопрос их мнимую несовместимость. Достаточно подумать об анализе морального языка в аналитической философии или верифицируемости ценностных утверждений, введенной неопозитивизмом, или о признании современной эпистемологией ценностей и верований, присутствующих в исследованиях; это проблемы, которые, хотя и происходят из разных областей, все больше и больше переплетаются в сегодняшних дискуссиях. Некоторые проведенные в данной связи исследования затрагивают эту особую тему, присутствующую, хотя и неявно, в самом процессе научного исследования.
Наблюдение
Наблюдение — это фундаментальный подход в любом исследовании, подход избирательный и аффективный. Святой Фома писал ubi amor, ibi oculus («Где любовь, там и око», 3 Sent., d. 35, 1, 2, I): акт видения, сосредоточения на чем-то и оставления остального на заднем плане проявляет желание, которое населяет сердце, настоящий двигатель внимания. В свою очередь, наблюдение влияет на привычки и качества наблюдающего, формирует его мышление и modus operandi (способ действия).
Считать научный подход к действительности полностью стерильным и изолированным было одним из наиболее распространенных положений философии Нового времени. Локк попытался обосновать его, прибегнув к различению первичных качеств (связанных с формой и количеством), считающихся объективными и независимыми от субъекта, и вторичных качеств (цвета, запаха и вкуса), на которые оказывает влияние наблюдатель, т. е. субъективных. Согласно его теории, только первые могут быть объектом научного исследования. Однако при более глубоком рассмотрении вопроса это различие оказывается несостоятельным: точка зрения наблюдателя важна даже в способе восприятия формы; кроме того, проблематичным оказывается само понятие «мира», который современная эпистемология определяет как умственное построение человеческого существа[1]. В таком случае апоретическим оказывается не только определение первичного качества, но и в целом материалистический подход к реальности.
Вклад субъекта станет еще более явным, если мы рассмотрим лингвистическое измерение наблюдения, необходимое для пояснения, которое предшествует любому наблюдению. Оно всегда обнаруживает неотъемлемое присутствие веры, плода общности, одной из основных характеристик которого является язык. В этом смысле значение объективности следует понимать не как отрыв от субъекта, а как интерсубъективность, конечную цель ряда обменов и взаимодействий. Именно общество признает и подтверждает совершенные наблюдения: «В большинстве случаев мы видим одни и те же объекты, в том смысле, что мы видим их общими, поскольку понятия, которыми мы располагаем, всегда общие. Разные люди проявляют сходную интеллектуальную деятельность, и это связано с тем, что они используют сходные понятия, так как индивидуумы нуждаются в словах, значение которых определяется их общим употреблением внутри сообщества» [2].
Отсюда и этические следствия наблюдения: все, отмеченное выше, имеет последствия, иногда значительные, для жизни наблюдателя, показывая необходимость принимать взвешенные решения, исходя из обоснованности данных и их возможности включать в себя проблематику. Игнорирование этих критериев влечет за собой даже драматичные последствия: «путаницу, разделение, фрагментацию, прогрессирующее самоуничтожение, смерть» [3].
Метод
Используемый метод не только является важным аспектом научного исследования, но и предоставляет точные критерии для различения в нем возможных пороков и добродетелей. Согласно греческой этимологии, метод — это путь (meta [«сверх»] и hodos [«путь»]), процесс, который ведет к созданию произведения различных жанров (см. Платон, Софист, 218d; Аристотель, Никомахова этика, 1129а). Этот путь показывает условную красную нить, которая соединяет разные этапы, позволяя применять его в будущих исследованиях. Именно воспроизводимость является отличительной чертой научного исследования.
История философской мысли выработала два пути, чтобы производить операцию конъюнкции: от общего к частному и от частного к общему. Первый нашел свою классическую формулировку в типичной доказательной конструкции, силлогизме: из двух предпосылок, одной общей и другой частной, делается неопровержимое заключение. Второй путь, индукция, также известный со времен античности, начинается с наблюдения, чтобы затем найти формулируемую в общем виде закономерность (см. Платон, Республика, VI, 509d; Аристотель, Топика, 100a).
Эпоха Просвещения, особенно деятельность Д. Юма, поставила под сомнение фактическую подлинность подобных процессов, посчитав дедукцию тавтологической, а индукцию ненадежной. Наблюдение лебедей белого цвета, сколько бы раз оно ни повторялось, никогда не исключает возможности найти черного лебедя. Но и это возражение предполагает наличие характеристик, которые в свою очередь нужно будет обосновывать: «На каком основании мы можем утверждать, что австралийский черный лебедь на самом деле лебедь, а не животное, принадлежащее к другому виду? Даже если мы предположим, что наши будущие наблюдения лебедей будут схожи с прошлыми, мы должны в любом случае решить, какие черты этих птиц должны быть обязательными для утверждения сходства. Установить схожесть в соответствии с цветом лебедя, а не с его весом, например, кажется довольно необоснованным»[4]. Доводя это возражение до крайности, было бы невозможно признать константы, на которых основывается ход повседневной жизни.
История научных открытий также показала, что оба способа действия — логика и сбор информации — недостаточны для объяснения реальности и продвижения в познании: теория и практика нуждаются прежде всего в воображении и метафорах. Подумаем, например, об изобретении самолета. Братья Уилбур и Орвилл Райт, спроектировавшие и построившие первый самолет, способный летать, не были инженерами, они даже не получили высшего образования, они учились только в средней школе. Как они могли добиться успеха в своем деле, побеждая конкурентов, располагавших большими средствами, теоретическими знаниями и более мощными опытными моделями? У братьев было мощное воображение[5]. В основе успеха компании лежала метафора, оказавшаяся решающей: они пытались представить, какое транспортное средство из уже известных могло бы быть близко к гипотетическому самолету. Братья исключили корабль, а также автомобиль и поезд, потому что, несмотря на несомненную мощь, которой они были оснащены, им не хватало чего-то необходимого для полета: неустойчивости. Поэтому они пришли к выводу, что наиболее похожим на гипотетический самолет транспортным средством является велосипед: он остается в равновесии благодаря мастерству водителя. Таким образом, исходя из конструкции велосипеда, братья Райт поняли, что существенной проблемой для полета является не мощность (как считали их конкуренты, с треском разбивающиеся о землю), а надежность, возможность управления.
История изобретений, подобно тому, что было отмечено в отношении наблюдения, показывает, насколько решающую роль играет личность исследователя. Критика Юма (и конкурентов братьев Райт) свидетельствует о логичном и строгом, но слишком абстрактном и упрощенном мышлении.
Обыденная жизнь также показывает непрерывное переплетение индукции, воображения и дедукции в способе рассуждения, и именно здесь возникает реальная точка отсчета для научного исследования. Каждый день мы признаем закономерности, которые не устанавливаем, мы скорее призваны их принять, позволяя им стимулировать наши мыслительные способности: «Когда мы переходим от наблюдения за конечным числом лебедей к некоторому общему заключению о них, мы не изобретаем связь между различными наблюдениями, а скорее выдвигаем обоснованную гипотезу о закономерностях, существующих независимо от наших наблюдений и относящихся к природе их объектов […]. Существенным моментом является то, что индукция представляет собой эвристический способ мышления, ориентированный на выявление уже существующих закономерностей» [6].
Именно закономерность показывает этический аспект метода: вера в порядок, лежащая в основе переживания смысла, необходима для жизни и временных изменений, результата баланса между памятью и планированием. Американский психиатр Ирвин Д. Ялом отмечает тесную связь между когнитивными структурами, обнаружением смысла и показаниями к действию; они, в свою очередь, являются основным условием выявления ценностей, необходимыми индикаторными сигналами здоровой с психологической точки зрения жизни человека[7].
Все это не может быть произвольно установлено человеком. Напротив, для Ялома именно отсутствие переживания смысла является главной причиной психического расстройства. Не только вера, но и надежда на то, что эти закономерности вновь проявятся в дальнейшем, лежат в основе любого возможного проекта и инициативы.
Объяснение
Объяснение есть цель метода, способность сделать понятным наблюдаемое. Постижимость, как отмечалось в отношении изобретений, присутствует в обычной жизни и является ее условием возможности. Без нее нет человеческой жизни, а есть хаос.
Даже объяснение не является чисто интеллектуальным вопросом, но требует таких незаменимых добродетелей, как смирение, осторожность, умение слушать и готовность пересматривать собственное мнение. Предполагаемая полнота теории обратно пропорциональна ее строгости; а строгость, если ее абсолютизировать, может привести к односторонности. В 1931 году австрийский математик Курт Гёдель сформулировал знаменитый принцип, в котором он признал, что формальная система может быть либо строгой, либо полной, но не может обладать обеими характеристиками, которые избавили бы ее от апорий и противоречий[8]. Этот принцип снова показывает свою очевидность в контексте обычного действия. Было бы по меньшей мере странно, если бы человек на вопрос о том, почему он решил отправиться в определенное место, отвечал бы, ссылаясь на мышцы и нервы, участвующие в движении; аналогичный эффект вызовет тот, кто описывал бы картину, перечисляя находящиеся на ней атомы: «На эпистемологическом уровне постоянное стремление к наиболее совершенной теории представляет собой скорее потерю, чем приобретение. Это так, потому что существуют разные уровни реальности […]. Истина о данном явлении устанавливается через соответствие между разными уровнями познания»[9]. Идеал объяснения не в том, чтобы быть как можно более полным, а в том, чтобы соответствовать поставленному вопросу.
Другая проблема, связанная с объяснением, заключается в установлении того, когда объем исследования следует считать исчерпанным. Она еще раз ставит нас перед ответственностью субъекта за принятие решений, его интересами, его подходом к реальности и, прежде всего, перед символической и аффективной ценностью, которую предлагаемая теория приобретает в его глазах. Позиция, вновь противоположная стерильному и отстраненному взгляду, простой фиксации фактов.
Интерпретация
Любое объяснение — это всегда интерпретация, и для его возможной атрибуции смысла помимо данных требуется знание контекста, референтного горизонта: такое действие, как возжигание ладана, например, может быть описано и как взаимодействие химических факторов, и как литургический жест. Различные, но не произвольные интерпретации. Современные исследования человеческого разума показывают, как многообразие несоизмеримых предложений связано с самой структурой человека, с его способом отношения к себе, к другим и к окружающему миру. В течение дня один и тот же человек может оказаться в самых разных ролях, требующих разных «правил игры». Аналогичное наблюдение можно сделать и в отношении подхода к внешней реальности. Гору можно наблюдать глазами геолога, поэта, географа, скалолаза, лыжника, туриста, фотографа, художника, мистика и т. д. Гора все время одна и та же, но отличается взгляд наблюдателя, его внутренний мир, который приводит его к пониманию одних аспектов, а не других. Это многомерный подход, свойственный человеку.
Джером Брунер, американский когнитивный психолог, ввел в связи с этим понятие «многомерного мышления», подразумевая под данным термином множественные когнитивные операции субъекта, которые, в свою очередь, выражаются в различных выборах и действиях: «Разные культуры культивируют и развивают разные таланты, разные формы “интеллекта”. Они даже определяют их […]. Наше сознание порождает не только версии реальности в соответствии с культурой, канонические и конгруэнтные устоявшимся культурным представлениям о “реальности” версии, но и, благодаря нашей способности к воображению, ряд возможных миров, которые могли бы существовать, которые, возможно, существуют или которые мы могли бы пожелать» [10].
Отсюда этический подтекст, присутствующий в каждой интерпретации: эти множественные подходы могут быть оценены как богатство или как угроза. Рефлексивное равновесие, уважающее сложность и желающее узнать разные точки зрения, является примером этического отношения, которое способствует человеческой зрелости. Мнимое нейтральное объяснение, лишенное всякой перспективы, в очередной раз оказывается серьезным оскудением человеческого опыта[11].
Готовность к диалогу между различными точками зрения позволяет нам также защититься от столь же реального, но обратного риска контекстуального релятивизма: он тоже характеризуется видением множественности как угрозы. Множественность разума открывает разнообразие возможных миров, ни один из которых не имеет большего права на гражданство. Кроме того, полезно осознать роль аффектов и ожиданий: они, как уже отмечалось, нередко являются наиболее важными мотивами, которые могут способствовать или препятствовать исследованию.
Рассматривая историю науки, Карл Поппер безутешно отмечает: «Если бы мы полагались на беспристрастность ученых, наука, даже естествознание, была бы совершенно невозможна»[12]. «Научная» мысль усеяна предрассудками, ожиданиями, иллюзиями, признаками наличия множества пересекающихся друг с другом миров, которые чаще всего игнорируются. Вспомним, например, о сильном сопротивлении в области медицины, вызванном нежеланием признать связь между инфекцией и гигиеной, гипотезу о которой выдвинул доктор Игнац Филипп Земмельвейс в девятнадцатом веке для объяснения высокой смертности рожениц. Несмотря на резкое снижение смертности в палатах, бригада медиков отказалась мыть руки после прикосновения к трупам, а врача уволила и поместила в психиатрическую лечебницу, где он подвергался насилию и унижениям всех видов: «Поражает, что конкурентоспособные и узкоспециализированные люди могли — в своей собственной науке — оставаться такими слепыми и глупыми»[13].
Среди «ядовитых», но стойких допущений в научной сфере можно вспомнить привычку смешивать проточные и сточные воды в европейских городах вплоть до конца XIX века (что приводило к частым и смертоносным эпидемиям холеры и чумы) или убежденность в возможности излечить сифилис ртутной мазью (отсюда и поговорка, бытовавшая среди больных: «Одна ночь с Венерой и вся жизнь с Меркурием»). С другой стороны, именно обнаружение их неправдоподобности представляет собой дополнительное подтверждение того факта, что можно установить истинность или ложность утверждений даже при наличии контекстов, которые, казалось бы, этому препятствуют.
Таким образом, готовность пересмотреть свои собственные суждения, не завершая дискуссии, является необходимой этической позицией для научного мышления; принятие смены парадигмы можно считать, продолжая утверждение Томаса Куна, настоящей формой обращения, которая приближает его к тому, что классическая рефлексия называет «практической мудростью». В этом смысле «добродетельный» (в аристотелевском понимании) исследователь проявляет себя способным уравновешивать доверие к собственным суждениям и готовность допустить, что последующий ход событий может их опровергнуть, чтобы одобрить другие, более открытые сложности[14].
Исследование как искусство жить
Отношения между наукой и добродетелью характеризуют философию с момента ее возникновения. Философия же зародилась как искусство жить; философские исследования, пересекающие самые разные области знаний, были направлены на то, чтобы научить распознавать и практиковать добро: значение, утраченное в Новое время и недавно вновь предложенное, прежде всего благодаря вкладу философов Пьера Адо и Мишеля Фуко. Таким образом, вопрос состоит в том, как в сегодняшнем контексте науки могут поддерживать этот первоначальный смысл.
Рассмотрев некоторые этапы научного исследования — наблюдение, метод, объяснение, интерпретацию, — мы увидели, как они могут — в соответствии с исследованиями Адо и Фуко — формировать личность, вести диалог с ее убеждениями и более общим представлением о мире. В постановке же конечных вопросов бытия наука и философия пересекаются с теологическим знанием.
В то же время следует также отметить, что, в отличие от научного исследования, человек, чтобы заниматься искусством жизни, не может просто присваивать открытия, сделанные его предшественниками. Каждый призван идти к мудрости самостоятельно, не ограничиваясь повторением тех, кто ему предшествовал. Однако мудрым размышлениям могут благоприятствовать учителя, воспитатели, друзья, тексты, оставившие след в душе, примеры людей, отличившихся в области исследования своей честностью и профессионализмом. В этом смысле даже истории многих ученых могут внести важный вклад в искусство жить.
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] См. L. Caruana, Scienza e virtù. Uno studio sull’impatto della mentalità scientifica sul carattere morale. Roma, Gregorian & Biblical Press, 2021, 34; J. Locke, Saggio sull’intelletto umano. Milano, Bompiani, 2012, l. II, гл. VIII, 9.
[2] Там же, 42; см. 29 и далее.
[3] Там же, 58.
[4] Там же, 71. См. D. Hume, Trattato sulla natura umana, Milano, Bompiani, 2001, 3, sc. 12.
[5] Как в последствии рассказывал Уилбур, говоря о том, как он спроектировал первый самолет: «Мое воображение рисовало картины более живые, чем мои глаза» (W. Wright, «Lettera alla sorella», 8 giugno 1907, in F. C. Kelly [ed.], Miracle at Kitty Hawk: the Letters of Wilbur and Orville, New York, Straus & Young, 1996, 212).
[6] L. Caruana, Scienza e virtù…, цит., 83.
[7] См. I. D. Yalom, Guarire d’amore. I casi esemplari di un grande psicoterapeuta, Milano, Rizzoli, 1990, 18.
[8] См. K. Gödel, «Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme», in Monatshefte für Mathematik und Physik 38 (1931), 173–198. Об отношении истина-доказательство см. D. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: un’eterna ghirlanda brillante, Milano, Adelphi, 1979; G. Gamow, Trent’anni che sconvolsero la fisica. La storia della teoria dei quanti, Bologna, Zanichelli, 1966.
[9] L. Caruana, Scienza e virtù…, цит., 111.
[10] J. Bruner, La mente a più dimensioni, Bari, Laterza, 2009, VIII.
[11] «Сциентизм в сущности состоит из формы объяснения, в которой отсутствует идея зависимости от контекста. Он состоит из такого рода объяснения, в котором допускается только правильная точка зрения по отношению к вещам или событиям и где допускается только физикализм. Следовательно, случай сциентизма показывает, что пренебрежение зависимостью объяснения от контекста не есть благо для индивидуума и связано с состоянием жизни, препятствующим истинному человеческому развитию» (L. Caruana, Scienza e virtù…, цит., 130; см. 122).
[12] K. Popper, Miseria dello storicismo, Milano, Feltrinelli, 1984, 136. См. G. Cucci, «Il potere dell’illusione», in Civ. Catt. 2018 IV, 338–351.
[13] M. Manzotti, «Perché lavare le mani: storia di un grande incompreso», in www.7per24.it/2011/07/04/perche-lavare-le-mani-storia-di-un-grande-incompreso
[14] См. T. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi, 1979, 179–183; N. R. Hanson, I modelli della scoperta scientifica. Ricerca sui fondamenti concettuali della scienza, Milano, Feltrinelli, 1978.