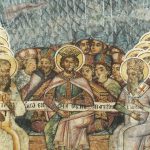Дариуш Ковальчик SJ
История индульгенций не лишена темных и не слишком назидательных страниц. Критика звучит с давних пор, и все же Церковь, руководимая Духом Святым, продолжает уточнять учение об индульгенциях, очищать его практическое применение и приглашает верных приступать ко «многоразличной благодати Божией» (1 Петр 4, 10). Многие католики отвечают на этот призыв, особенно в первые дни ноября, посещая кладбища и молясь об усопших. Есть специальные периоды для получения индульгенции, например юбилейные годы, которые Церковь регулярно учреждает и провозглашает с 1300 года. В булле об очередном Юбилее 2025, Spes non confundit (SNC), Папа Франциск увещевает: «Пусть зачитывают фрагменты из настоящего документа и возвещают народу юбилейную индульгенцию, которую можно получить согласно предписаниям, содержащимся в Требнике для совершения Юбилея в отдельных Церквях» (№ 6). Многие тексты подробно излагают историю и разъясняют правила получения индульгенции. В этой статье поговорим об экзистенциальном аспекте индульгенций, надеясь способствовать благочестивому и разумному обращению с ними.
Суть индульгенции
Кодекс канонического права (ККП), следуя апостольской конституции Indulgentiarum doctrina (1967) св. Павла VI, определяет индульгенцию так: «Индульгенция — это отпущение перед лицом Бога временного наказания за грехи, уже прощенные в том, что касается вины. Верный Христу, расположенный подобающим образом, получает ее [для себя или для усопших] на строго установленных условиях посредством действия Церкви, которая, как служительница искупления, правомочно распоряжается сокровищницей заслуг Христа и святых и применяет ее» (кан. 992). Кого-то это утверждение встревожит, ведь тут сказано о временном наказании, которое нам угрожает, хотя уже прощены все грехи. Слова Иисуса к ученикам: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин 20, 22–23), — требуют задать очевидный вопрос: если надо понести временное наказание, значит ли это, что прощение неполное? Разве в таинстве покаяния — точнее, примирения — Бог не стирает грехи реально и полностью? Давайте разберемся. Бог прощает наши грехи в рамках и вне рамок таинства, без всякого «однако». Если же, несмотря на это, остается некое «однако», если остаются возражения, тому причиной ни в коем случае не Бог, а природа греха.
«Временное наказание» не означает, что Бог прощает нас частично и хочет продлить время наказания за сделанное нами зло, а означает, что грех, даже прощенный в плане вины, оставляет в нашей жизни последствия, более или менее тяжкие. В булле Spes non confundit Папа Франциск объясняет, в каком сложном положении оказывается прощеный грешник: «Грех “оставляет знак”, влечет за собой последствия — не только внешние, плоды сделанного зла, но и внутренние, поскольку “всякий грех, даже простительный, вызывает нездоровую привязанность к творениям, которая нуждается в очищении”. […] Итак, в нашей человеческой природе, слабой и склонной ко злу, пребывают “остаточные продукты греха”» (№ 23).
Ту же тему Франциск раскрывает в булле Misericordiae Vultus (MV) от 2015 года: «В таинстве примирения Бог прощает грехи, и они воистину стерты, но все же остается негативный отпечаток, наложенный грехами на наше поведение и мысли. Однако Божье Милосердие и тут сильнее. Оно становится индульгенцией — снисхождением Отца» (MV 22). Иными словами, Милосердный Бог нас спасает, но действует не автоматически, не мановением волшебной палочки, потому что мы не роботы и не куклы Барби, а неповторимые личности, которым нужно время, чтобы исцелить и восстановить отношения, поврежденные и расстроенные. Эта точка зрения не типично юридическая, а глубоко экзистенциальная. Вину можно простить, но с разнообразными последствиями греха мы имеем дело и избавляемся от них только in itinere — в пути, в течение жизни. Процесс исцеления часто болезненный, поэтому мы говорим о «временном наказании». В любом случае оно не наложено Богом, а вытекает из природы греха, который «оставляет следы».
Проиллюстрируем временное наказание простыми примерами. Предположим, муж изменил жене, и она об этом узнала. Муж искренне кается, просит прощения у жены, исповедуется. Хотя он получает отпущение греха на исповеди и прощение от жены, последствия измены остаются. Паре требуется время, чтобы восстановить доверие и нежность в супружеской жизни. Иными словами, прощена вина, но остаются раны, нанесенные грехом, и нужно время на исцеление. Эти раны — временное наказание. А индульгенция — это благодать, помогающая залечить последствия грехов, уже прощенных в плане вины. Говорят о «временном наказании», потому что есть и «вечное наказание», то есть вечное осуждение, вызванное тем, что человек сказал Богу окончательное «нет». Как временное наказание, так и вечное — не результат мести со стороны Бога, а последствия осознанного и свободного человеческого действия. В этом контексте слово «наказание» может сбить с толку, указывая на искаженный образ Бога; все же мы продолжаем пользоваться этим словом, поскольку оно унаследовано от Библии и Предания, но осознаем, что Бог, со Своей стороны, всегда старается спасти и исцелить человека.
Частичная и полная индульгенция в историческом контексте
Учение об индульгенции отличает частичную индульгенцию от полной «в зависимости от того, как она освобождает от временного наказания, полагающегося за грехи: частично или полностью» (ККП, кан. 993). В этом различии выражен тот факт, что Божья благодать действует в человеке постепенно, и эта постепенность отнюдь не присуща действию Бога в том смысле, будто Он не хочет исцелить грешника сразу и полностью, но обусловлена внутренним устройством человека: будучи существом конечным, он только ограниченно способен воспринять изобильную благодать, и ему нужно время, чтобы возрасти в добре.
С другой стороны, надо сказать, что учение о частичной и полной индульгенции уязвимо для религиозной «меркантильности», как показывают в ходе истории многочисленные примеры злоупотреблений при распоряжении индульгенциями, давшие основание считать эту практику торговым обменом, «коммерческим» обрядом, а не церковным проявлением благодати Божией. К сожалению, получил распространение «языческий» образ мыслей, согласно которому можно получить много прощений — и даже вечную жизнь, — «просчитанных» на основании поданных милостыней и т. д., при этом совершенно забывают главное — призвание к личному обращению.
В начале XI века индульгенцию выдавали — умеренно — Понтифики и епископы, но скоро включилась коррупция: например, использовали индульгенцию, чтобы мобилизовать мужчин и склонить их к участию в крестовых походах, или как источник финансирования для тех же походов. Папское государство, местные Церкви, монашеские ордена и разнообразные братства осознавали необходимость — соответствующую подлинному социальному запросу — в чем-то таком, что имеет вид индульгенции; в то же время они понимали, что раздача прощений — это обильный и реальный источник дохода. Кроме того, практика применения индульгенций шла рука об руку с религиозностью «страха», распространившейся в первой половине второго тысячелетия. Поэтому множились обряды, молитвы, мессы, пожертвования и паломничества, и к этому привязывали индульгенцию. Так называемую «меркантильную» набожность подкрепляли представления столь же красочные, сколь наивные, о загробном мире, в частности о чистилище. Согласно этим представлениям, души отбывают в чистилище определенный период, измеряемый временем: днями или годами, прежде чем перейти в рай. По этой вере, разным индульгенциям приписывали точное число дней или лет, чтобы измерить длительность временного наказания в чистилище, которую можно сократить благодаря индульгенции.
Это значит, что применяли индульгенцию без должного богословского размышления; только с XIII века богословы начали исследовать тему внимательнее. Св. Фома Аквинский предложил позитивную теорию, которая признавала индульгенцию в общем, но не была достаточна для очищения от прогрессирующей коррупции. Причем цифровое измерение индульгенций подверглось драматичной инфляции: речь шла уже не о днях и годах, а о сотнях и даже тысячах лет в чистилище. На фоне этой «бухгалтерии» активно расплодились шарлатаны и мошенники, собиравшие денежки в обмен на пустые обещания, прилагаемые к частичным и полным индульгенциям.
Одним из факторов, вызвавших резкую реакцию Лютера и приведших к Реформации, стала именно «бухгалтерия» индульгенций: особенно в связи со сбором средств на строительство базилики Св. Петра. Во многих из 95 тезисов упомянут «скандал» с индульгенциями[1]. В тезисе 34 Лютер утверждает, что «благодать индульгенций относится только к наказаниям сакраментального удовлетворения, а они учреждены человеком». Поэтому проповедь об индульгенциях названа «скандальной» (ср. тезис 81). Далее следует иронический вопрос: «Почему Папа не опустошит чистилище ради святейшей милости и великого страдания душ, ведь это самая праведная причина, а вместо того освобождает бесконечное число душ ради жалких денег на строительство базилики, тогда как это одна из слабейших причин?» (тезис 82).
Церковь в ответ на критику боролась со злоупотреблениями и предъявляла учение, углубленное и упорядоченное. Тридентский Собор в Декрете об индульгенциях (1563) утверждает: «Власть предоставлять индульгенции дана Христом Церкви, которая с древних времен применяла это средство, каким она наделена по Божественному изволению [ср. Мф 16, 19; 18, 18]. Поэтому Святой Синод учит и велит поддерживать в Церкви этот обычай, очень полезный для христианского народа […]. Тем не менее она желает, чтобы индульгенции раздавали с умеренностью […]. Она также желает избавиться от злоупотреблений в этой области»[2]. Как видим, искали сбалансированное решение, чтобы не «выплеснуть ребенка вместе с водой»: устранить ошибочное и вредное, не теряя здравого ядра.
Важным шагом на этом пути стала уже упомянутая апостольская конституция св. Павла VI Indulgentiarum doctrina. В конце документа находим список из 20 правил, и № 4 гласит, что «частичная индульгенция отныне будет обозначена только словами “частичная индульгенция”, без всякого уточнения дней или лет». Кроме того, в правиле 6 читаем: «Полную индульгенцию можно приобрести один раз в день […]. А частичную индульгенцию можно приобретать несколько раз в день, если обратное прямо не указано». Правило 7 помогает понять важную разницу между частичной и полной индульгенцией: «Приобрести полную индульгенцию можно на трех условиях: таинство исповеди, причастие и молитва в намерениях Понтифика. Кроме того, требуется исключить всякую привязанность ко греху, даже простительному. Если нет полной решимости или не поставлены вышеназванные три условия, индульгенция только частичная»[3].
Самое трудное условие для получения полной индульгенции — «исключить всякую привязанность ко греху, даже простительному». Человек способен сотрудничать с Божьей благодатью, чтобы достичь такой свободы, но поскольку это расположение фактически встречается редко, мы можем утверждать, что полную индульгенцию не получают часто, хотя надо сказать, что тут речь идет о личных отношениях между Богом и человеком, а такие отношения ускользают от всяческих суждений или попыток объективации. Частичная индульгенция тоже определяется отношениями с Богом. Нет никакого способа измерить благодать, полученную и фактически воспринятую. Но мы можем надеяться, что она, несмотря на нашу слабость, действует в нас, в том числе и через индульгенцию, постепенно ведя нас к полному перерождению. Монсеньор Кшиштоф Никель, регент Апостольской пенитенциарии, отмечает: «В этом смысле разница между полной и частичной индульгенцией — как между плодом и цветком: обе проистекают из любви Христовой, но одна в какой-то мере предвосхищение, а другая исполнение»[4]. В любом случае крайне трудно — как мы уже подчеркнули — говорить о количестве применительно к духовным предметам, да они и не «предметы», а отношения, жизнь в Духе человека с Богом.
Для живых и для умерших, которые в чистилище
Кодекс канонического права утверждает: «Всякий верный может приобретать частичные или полные индульгенции либо для себя самого, либо применять их в качестве заступничества за покойных» (кан. 994). Следовательно, нельзя получить индульгенцию за другого живого человека. Как это объяснить? Почему возможна индульгенция для усопших, то есть для тех, кто после смерти находится в чистилище, но не для тех, кто еще жив? Дело в том, что души в чистилище уже не могут действовать в свою пользу, только подвергаются благодати очищения, в чем состоит их подготовка к переходу на Небо. Зато живые еще в том состоянии, когда могут выбрать путь обращения, покаяния и добрых дел. Также они могут приобрести индульгенцию для себя, но нет никакого смысла пытаться получить индульгенцию для кого-то, кто сам не хочет открыться навстречу Божьей благодати. Таким образом, невозможно выполнить условия для получения индульгенции за живого, который и сам мог бы проделать этот путь. Мы призваны молиться о других, но не можем вместо них принять решение обратиться к Богу и принять Его дары. Ведь индульгенция за живых зависит от акта личной воли, помимо исполнения предписанных дел[5].
Что касается тех, кто в чистилище, они уже выбрали вечную жизнь с Богом, но не могут творить благочестивых дел и, с этой точки зрения, живут в пассивном состоянии, открытом навстречу очистительному действию Бога. Кардинал Мауро Пьяченца поясняет: «Тот, кто в чистилище [homo purgans], уверен в вечном спасении, но уже лишен дара свободы, поэтому больше не может обретать заслуг»[6]. Верные (homo viator), напротив, могут активно присоединяться к делу Божию и вносить вклад, через индульгенцию, в очищение, происходящее в ином мире.
Нужно отметить, что души в чистилище могут молиться о нас. В этом один из элементов того, что мы называем «общением святых». Человек не остров, никто не спасается в одиночку. Бог, Единственный Спаситель, хочет включить людей в Свое спасительное дело. Индульгенция для самого себя вписывается в экзистенциальный процесс собственного очищения от последствий греха (временное наказание), уже прощенного в плане вины. Итак, надо снова подчеркнуть: как сказал св. Иоанн Павел II, «индульгенции — отнюдь не что-то вроде “скидки” в усердии обращения, а помощь в восхождении к усердию более решительному, щедрому и радикальному. […] Поэтому ошибется тот, кто подумает, что можно получить этот дар простым соблюдением внешних требований»[7]. А предписанные дела служат выражением обращения к Богу. Подобным же образом индульгенция за усопших, которые теперь в чистилище, включается в процесс очищения, предусмотренный Милостивым Богом для подготовки человека к благодати вечной небесной жизни. В этом Божественном действии мы не должны искать прямого «выкупа», то есть индульгенция для умерших не работает «механически», со стопроцентной автоматической эффективностью, но это заступническое действие, и оно всегда зависит от Божьего благоволения.
Чтобы глубже войти в тему очищения, которому могут подвергаться усопшие, присмотримся к экзистенциальному смыслу учения о чистилище. Те, кто на Небе, в наших молитвах не нуждаются — наоборот, сами ходатайствуют о нас. А тем, кто отказался от Бога и выбрал то, что мы называем «адом», молитва уже не поможет. Впрочем, проклятые, упорствуя в гордыне, не ожидают от нас поддержки или помощи. Но есть и те, кто, уже переступив порог смерти, продолжают паломничество к раю.
Чистилище — это истина веры. С одной стороны, мы не отвергаем Бога и хотим быть в Его Царстве, а с другой — признаем себя грешными, слабыми, неготовыми войти во врата Неба и вкусить полную радость во Святом Духе. В этой шаткой ситуации Сам Бог, по Собственной щедрой инициативе, очищает нас и делает способными принять небесную жизнь. Мы не должны считать чистилище местом пыток, задуманным для выплаты долгов за грехи, и не должны думать, что Бог не может сразу ввести нас в Свое Божественное жилище или желает в наказание продержать нас в чистилище какое-то время.
Чистилище необходимо не Богу, а нам. Мы запятнаны, расколоты, потеряны; сам Бог нас омывает, облачает в прекрасные одежды и указывает дорогу на брачный пир в вечности. В чистилище человек уже знает, что попадет в рай, но понимает, что — при всем желании — еще не вполне готов к вечному блаженству. Чистилище можно сравнить с положением ребенка, который напроказил и знает, что мать его простит и обнимет, но, несмотря на это знание, стыдится и не смеет попадаться матери на глаза. Прячется, потому что не может сразу броситься в материнские объятия и там остаться, в покое и довольстве. Так и души в чистилище понимают, что Иисус их любит, но еще не вполне готовы склонить голову на грудь Учителя. Наша солидарность с ними, молитвы и индульгенции помогают нашим любимым преодолеть то, что до сих пор мешает им принять целиком любовь Божию.
Хотя в Библии нет явного учения о чистилище, все же есть знаки, на него указывающие. Во Второй книге Маккавейской (12, 39–45) находим молитву о погибших воинах, которые согрешили ношением под одеждой языческих амулетов. Значит, речь идет об очищении после смерти от греха и его последствий. Это и есть чистилище. В Первом послании к Коринфянам содержится загадочный текст, наводящий на мысли об очищении после смерти: «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор 3, 14–15).
Уже в древней Церкви молились об усопших: например, из Исповеди св. Августина мы знаем, что он молился об усопшей матери. Однако до XII века термин «чистилище» не применялся в текстах церковного учительства. Он вошел в официальное учение Церкви на II Лионском Соборе в 1274 году. Затем Флорентийский Собор сформулировал доктрину о чистилище в булле Laetentur caeli (1439), которую подтвердил Тридентский Собор в Декрете о чистилище (1563).
Самое знаменитое литературное описание чистилища — в Божественной комедии Данте. Поэт изображает гору: подножие погружено в океан, вершина достигает неба. Чистилище состоит из девяти частей. В преддверии — души, ленивые в покаянии. Далее следуют семь уровней, где души очищаются от смертных грехов: гордыни, зависти, гнева, жадности, неумеренности, нечистоты. На вершине горы, то есть на девятом уровне, души пьют из двух источников: забывают свои ошибки и вспоминают заслуги. Высшая часть окружена чистым эфиром, через который душа летит к небу. С богословской точки зрения, чистилище — не последовательные уровни испытаний, а встреча с Иисусом Христом, Чья любовь очищает нас от всего, что противоположно любви. Иисус приглашает верных участвовать во встрече, то есть черпать из сокровищницы Божьего Милосердия и общения святых.
Упование на Милосердие Божие: свидетельство с. Фаустины
Папа Франциск многообразно указывает на связь между индульгенцией и Милосердием Божиим. В булле Spes non confundit читаем: «Индульгенция позволяет увидеть, сколь безгранично Милосердие Божие. Неслучайно в древности термин “милосердие” употреблялся наравне с “индульгенцией”, ведь он выражает полноту Божьего прощения, не знающего пределов» (SNC 23). Бесконечно далека от милосердия идея духовной «бухгалтерии», иногда замутняющая евангельскую весть, которую проповедует Церковь. Милосердие дается даром, что, однако, не исключает того, что мы должны выполнить определенные условия, чтобы суметь его принять. Основное условие — доверие (= упование), позволяющее открыться навстречу благу, милосердно предлагаемому. Об этом — Дневник, который нам оставила с. Мария Фаустина Ковальская, апостол Милосердия[8]. В явлении Сам Бог объясняет ей: «Благодатные дары Моего Милосердия почерпнуть можно лишь одним сосудом, и это — упование»[9]. Разнообразные благочестивые практики, о которых мы читаем в Дневнике, имеют целью пробудить, укрепить и углубить упование на Бога. А уповаем мы не на правильные формулы и предписанные действия, а на личные отношения с Отцом, Сыном и Святым Духом. Иными словами, ощущение безопасности, духовное убежище, о котором говорится в текстах Фаустины, не «приобретается» чтением молитв, но коренится в доверии к Богу. То же можно сказать об индульгенции: Церковь назначает способы ее получить и правила, но суть индульгенции в том, что она пробуждает доверие к Милосердию Божию.
Этот акт доверия должен сопровождаться милосердием к ближнему. В одном из видений Иисус говорит Фаустине: «Ты первой должна отличиться упованием на Мое Милосердие. […] Ты должна являть Милосердие ближнему везде и всегда […]. Вот тебе три способа выказывать Милосердие ближнему: первый — действие, второй — слово, третий — молитва»[10]. То есть упование — не пассивное ожидание благодати свыше. «Душа, не поступающая милосердно, не получит Моего Милосердия в день суда»[11], — предупреждает Иисус.
Для с. Ковальской самая важная перспектива в деле милосердия — вечная жизнь. Христианское упование на Милосердие Божие — не просто пожелание, чтобы все «было хорошо» в нашей земной жизни, но для нас открываются бесконечные и вечные горизонты Милосердной Любви Божией. В этом духе Фаустина получала индульгенции, глубоко убежденная в том, что Сам Иисус ее к тому призывает, когда говорит с ней о душах в чистилище: «В твоей власти дать им облегчение. Бери из сокровищницы Моей Церкви все индульгенции и приноси за них»[12].
Так мы подошли к самому важному понятию в учении об индульгенции, и это — «сокровище Церкви», связанное с верой в общение святых. Катехизис Католической Церкви (ККЦ) излагает тему индульгенции в перспективе «общения святых». У этого выражения два значения: приобщение священным предметам (sancta) и общение между святыми людьми (sancti) (ср. ККЦ, № 948). Слово sancti относится не только к тем, кто уже пребывает в Небесной славе, но и к верным, еще совершающим паломничество на земле, и к тем, кто в чистилище. Таковы три измерения церковного общения: Церковь воинствующая, очищающаяся, торжествующая. Все мы — учит II Ватиканский Собор, — хотя «в разной степени и разным образом, общаемся в одной и той же любви к Богу и к ближнему. […] Единство […] укрепляется через общение в духовных благах»[13]. Иными словами, верные на Небе, в чистилище и на земле различным образом соединены со Христом, общаются друг с другом и делятся дарами, полученными от Бога.
Далее в Катехизисе сказано: «Мы называем также эти духовные блага, проистекающие из общения святых, сокровищем Церкви» (№ 1476). Св. Павел VI в документе Indulgentiarum doctrina подчеркивает, что это сокровище представляет собой прежде всего «бесконечную и неисчерпаемую ценность искупления и заслуг Христовых в очах Отца». А к заслугам Христа присоединяются «молитвы и добрые дела Блаженной Девы Марии и всех святых» (№ 5). Иисус Христос, Единственный Спаситель, приглашает нас участвовать в Его искупительном деле, и один из способов этого участия — индульгенции. Мы черпаем из сокровища Церкви — это один из аспектов общения святых, — и его можно назвать «сокровищем Милосердия Божия», откуда вытекают и куда поступают наши дела милосердия, включая индульгенцию.
Все это не имеет ничего общего с ложной религиозностью: «меркантильной», законнической и пропитанной страхом. Истина в том, что во Христе наша жизнь связана с жизнью других христиан, наших предшественников, так что мы можем друг другу помогать, хотя между нами еще есть расстояние: между землей и чистилищем.
Индульгенция всегда актуальна
Из-за злоупотреблений при «пользовании» индульгенцией, с которыми Церковь долгое время не умела справляться, учение об индульгенциях стало причиной разделения между Католической Церковью и другими христианскими конфессиями, особенно протестантскими общинами. Звучали неосновательные мнения: индульгенция — дело прошлое, скоро ей придет конец, это лишь вопрос времени.
Однако в экзистенциальной и христоцентричной перспективе мы увидим неувядающую актуальность индульгенций. Поэтому Церковь не перестает предлагать верным эту практику, укорененную в тайне Милосердия и в истине об общении святых. Кардинал Пьяченца утверждает: «Сокровищем индульгенций […] нельзя пренебрегать: не заработанное людьми, а свободно дарованное Христом, из Его бесконечных заслуг перед Отцом, оно никогда не будет утрачено»[14]. Очередной Юбилей 2025 приглашает верных заново осмыслить индульгенцию и принимать ее с доверием, открываясь навстречу надежде. Spe salvi facti sumus — «Мы спасены в надежде».
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Ср. 95 тезисов Лютера, www.chiesaluterana.it/teologia/le-95-tesi-di-lutero
[2] H. Denzinger — P. Hünermann, Henchiridion Symbolorum, Bologna, EDB, 1995, № 1835.
[3] Павел VI, св., Апостольская конституция Indulgentiarum doctrina, https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_01011967_indulgentiarum-doctrina.html
[4] K. Nykiel, Il Sacramento della Misericordia. Accogliere con l’amore di Dio, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2019, 269 сл.
[5] Там же.
[6] M. Piacenza, Il grande tesoro delle indulgenze, Lectio Magistralis, 9 марта 2015 г., www.penitenzieria.va/content/dam/penitenzieriaapostolica/indulgenze/Pia-
cenza20-%20Lectio%20magistralis%20Indulgenze%202015.pdf
[7] Иоанн Павел II, св., Дар индульгенции, Общая аудиенция, 29 сентября 1999 г.
[8] Ср. D. Kowalczyk, Il perché della Trinità. Dodici questioni scelte di teologia trinitaria, Venezia, Marcianum, 2024, 279–281.
[9] F. Kowalska, Diario. La Misericordia Divina nella mia anima, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, № 1578.
[10] Там же, № 742.
[11] Там же, № 1317.
[12] Там же, № 1226.
[13] II Ватиканский Вселенский Собор, Lumen gentium, № 49.
[14] M. Piacenza, Il grande tesoro delle indulgenze, цит.
Фото: собор Святого Петра / Mustard Assets @ Adobe Stock