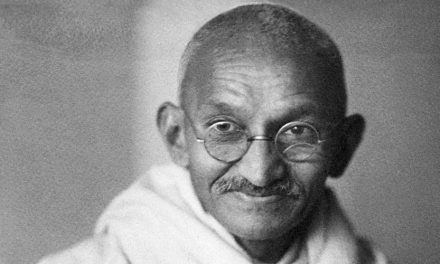Этьен Грю SJ
Милосердие поднимает не только этические проблемы, но и представляет собой «богословский локус». Опыт отношений, способных подняться выше того, что делает нас чужими, открывает для животворящей любви, призывающей к существованию, в котором верующий распознает деяние Бога. Так, наиболее слабые люди, с которыми зачастую не считаются, признаются в качестве водителей на пути к Богу. Милосердие — важный «богословский локус», поскольку дает нам следовать по стопам Христа, пришедшего восстановить узы завета между Богом и человечеством, вплоть до отдачи жизни ради спасения мира. Автор — ректор Facultés Loyola Paris [Facultés Loyola Paris — высшее учебное заведение, спонсируемое иезуитской провинцией Франции, Бельгии и Люксембурга. Там обучаются иезуиты, монашествующие и миряне; выпускники получают канонические дипломы. В настоящее время на Facultés Loyola Paris преподают и учатся представители из более чем 50 стран. — Прим. пер.].
***
Милосердие — «богословский локус»? О «богословском локусе» речь идет как об одной из «разнообразных сфер, отталкиваясь от которых теология в состоянии разработать собственное знание, либо [о] разных первоисточниках, к которым обращается теология: Писание, Предание, патристика, учительство, литургия и т. д.»[1], согласно определению, данному богословом Мельхиором Кано в XVI веке[2]. Если речь идет о систематическом упорядочивании аргументированного дискурса о Боге, тогда у милосердия мало шансов считаться «богословским локусом». Ведь милосердие — опыт без четких границ, с порой неустойчивой и на вид очень шаткой терминологией. К нему совершенно неприменимы четко определенные, весомые, устойчивые и упорядоченные элементы, как, например, в случае, когда мы имеем дело с письменным текстом. Так, все богословские первоисточники, процитированные Мельхиором Кано, это тексты; но к опыту нельзя подходить с аргументами, которые можно взвесить, сравнить и т. п. Исходя из этого, как можно двигаться к аргументированному дискурсу?
В свете сказанного, можно бы заметить, что процитированные Мельхиором Кано первоисточники, по своей сути, относятся к опыту, начиная с книг Священного Писания, которые для нас — следы опыта Бога, приобретенного народом и огромным числом свидетелей. Уместно также добавить, что теология не сводится к сборнику аргументов, но стремится представить историю Завета и событие спасения, передать их на вразумительном языке. Следовательно, нужно не только говорить, что «милосердие» — это богословский локус, но нечто намного большее: это локус по преимуществу введения в жизнь в Боге. Действительно, встреча с Богом дает нам испытать Его любовь; поэтому не сосредоточенному на любви богословию угрожает опасность отдалиться от источника, зачахнуть. Исходя из этого, разве мы не должны настаивать на том, что всякий опыт подлинной любви потенциально ведет к познанию Бога?
Утверждать это — значит подчеркивать, что познание Бога в первую очередь не доктринальная проблема, насколько бы правильно она ни была выражена, а встреча, принятие и путь, проделанный вместе, где отношения с другими и с Богом пересекаются тесно и неразрывно. Здесь включается в процесс концепция откровения, предложенная II Ватиканским Собором: «Это домостроительство Откровения совершается действиями и словами, внутренне между собою связанными, так что дела, исполненные Богом в истории спасения, являют и подтверждают учение и все, что знаменуется словами, а слова провозглашают дела и открывают тайну, в них содержащуюся»[3]. Иначе говоря, Откровение — не просто учение, а события, деяния, совершенные Богом, ассоциированные со словами, которые помогают нам понимать их и понимать Бога. Поэтому апостол Иоанн пишет: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога: и каждый любящий рожден от Бога и знает Бога» (1 Ин 4, 7). Если слова отделены от пережитого (от любви, из которой мы извлекаем благо), то они, скорее всего, истощатся.
Подобное знание о Боге, то есть согласие с Его любовью, несли христианские общины и каждый из их членов, чтобы тем самым быть рядом с теми, кого они встречают. Из этого понятно, что дела милосердия и борьба за справедливость для Церкви — не второстепенное, побочное по отношению к ядру веры дело, для христиан и для общин речь идет о встрече с Господом и о способе распространять Евангелие Царства. «Милосердие для Церкви — не какой-то вид деятельности, связанный в данном случае с социальной помощью, — которой она могла бы предоставить возможность заниматься другим; милосердие заложено в природе Церкви, милосердие — неотъемлемое выражение самой ее сути»[4]. Широкий мир милосердия предоставляет Церкви возможность вновь поразмышлять о месте в ней солидарности: это не вспомогательный аспект общины, а реальность, знаменующая сердце ее веры, опыта о Боге, позволяющий проникнуть в нее и через нее — любви, сообщаемой нам Богом.
Какое особое значение обретает сегодня призыв любить, чтобы познать Бога? Этот вопрос заставляет нас предложить прочтение актуального контекста, а именно — условия неолиберальной глобализации. Исходя отсюда, можно спросить, какие черты образа Божия подчеркиваются в этом случае. И как мог бы родиться иной способ жить в мире.
Каковы особые аспекты милосердия в наши дни?
Глобализация позволяет контактировать бесчисленному количеству пользователей. Само по себе это хорошая новость, если только логика состязания не берет верх, вплоть до претензии регулировать исключительным образом все социальные и человеческие отношения. Тогда любой участник чувствует неуверенность; задается вопросом о собственной ценности, о месте, которое он может занимать, и о собственной полезности. Некоторые — наиболее слабые и менее эффективные — чувствуют, что причины их бытия в миру, само существование, подвергаются сомнению.
Тогда становится понятно, что люди в регионах, странах и на целых континентах живут, беспокоясь о том, как оставаться индивидуумами, носителями истории и богатства, которые только они в состоянии выразить. Какие-то острова рискуют оказаться затопленными; шахты опустошают целые области, а новые производственные практики дестабилизируют локальные экономики. Примеров множество. И это вызывает всевозможные реакции, нередко сообщающие отношениям еще большую жестокость.
Перед лицом всего этого нам кажется, что милосердие должно сфокусировать свое внимание на трех пунктах: 1) не примиряться с фактом, что человеческие отношения регулируются исключительно логикой расчета; 2) всегда стремиться достигать тех, кто «не считается» и живет «в тени смертной» (Лк 1, 79), чтобы поддерживать с ними связи совместной истории; 3) поступая так, мы обязаны открыть заново важность тех уз, которые призывают нас к жизни и поддерживают наше существование.
«Caritas»: сопротивление распространению логики расчета
В сфере институционального обмена каждый стремится выразить собственную уникальность. Человек представляет себя и старается жестами, словами и делами говорить о себе, делясь с другими тем, насколько он особенное существо, что по большей части остается тайной даже для него самого. Для этого субъект всегда обязан заново изобретать доступные и понятные для других способы проявления собственной исключительности.
Когда в сфере обмена почти исключительно доминирует состязательность, каждый инстинктивно стремится к самовыражению посредством сравнения, измерения, подсчета. Как говорит Хан Бён-Чхоль: «В неолибералистическом режиме оно [массовое индустриальное общество] трансформируется в общество достижения, где мы состязаемся с целью усилить наш перфоманс»[5]. Но тогда уникальность каждого теряет интерес, так как по определению нельзя сравнивать исключительность. Значит, каждый обязан отказаться от собственных качеств на благо того, что можно задействовать в состязании, того, что относится к порядку измеряемых способностей и поддающейся объективизации эффективности. Эта дисциплина позволяет действующим лицам сохранять свое место в сфере просчитанных связей, но трудно сказать, кто они. Следовательно, мы идем к абсолютному уничтожению исключительности? Конечно, нет, потому что субъект в отношениях никогда не отказывается от выражения своих особенностей, но все что ему остается — проявлять их во второстепенных для общества сферах (частная жизнь, дружеские круги, межличностные отношения), или способом, доступным только меньшинству (художественное и литературное творчество, хобби).
У многих, лишенных пространства и средств самовыражения, остался лишь гнев для того, чтобы их услышали. Они становятся энергичными проводниками национальной, культурной или религиозной идентичности, поставленной выше всего, зачастую пересмотренной по случаю и эксплуатируемой в политических целях[6]. Или становятся деструктивными и жестокими, но тогда выглядят карикатурой на самих себя. В любом случае, мир, строящийся практически исключительно на основе просчитанных отношений, становится слепым к исключительности: в нем все стандартизировано, гомогенизировано, предусмотрено и уравнено. Все измеряется, но все по-настоящему новое рискует пройти совершенно незамеченным.
Итак, истинная новизна — возможно, единственная, нам доступная, — проистекает, как подчеркивала Ханна Арендт, из «актуализации человеческого условия рождения»[7]. Рождение нового существа совершенно невозможно просчитать, и оно способно удивить мир. И такие рождения невозможны без любви. Поэтому милосердие можно рассматривать как нечто, что борется изо всех сил против сведения мира к системе просчитанных связей. Оно делает это множеством средств, позволяет услышать свой призыв каждый раз, когда мы отказываемся от закона состязания, каждый раз, когда учитываем другие критерии, которые тем или иным образом говорят, что с другим человеком нужно считаться за то, кем он есть, а не за то, какой вклад он может внести.
Творить историю с забытыми
Мир, где доминирует состязательность, творит чудовищное дело по классификации не только достижений, но и личностей. В основании классификации находятся те, кто недостаточно успешен. Они становятся невидимыми в глазах других, поскольку лишены возможности претендовать на какую-либо выгоду в разных операциях, в которых мы задействованы[8]. То есть они не имеют опоры, вынуждены жить на пособие; их не зовут внести вклад в построение мира; они унижены, так как практически более не располагают средствами для того, чтобы заявить о том, кто они, чтобы заставить понять, какое уникальное сокровище они несут. Милосердие не может принять такое положение дел. Для него исключение из жизни общества — признак глубоко разрыва социальной связи. Переворачивая подобную логику, милосердие посвящает свою энергию и радость поиску маргинализированных лиц и не успокаивается, пока не достигнет их; и происходит это лишь в силу простого удовольствия обрести заново голоса и лица, которые могли бы исчезнуть.
Те, кем пренебрегают, обязывают остальных, если они хотят встретить их, выйти из логики расчета эффективности. Они заставляют нас идти к сути: заново открыть, что наша жизнь зависит не от места, отведенного в классификации, а от встречи, в которой уникальность каждого призвана и способна проявляться. Тогда предпочтение отдается связи по типу «завета»: каждый по-настоящему старается в присутствии другого, потому что это он, а не потому что надеется получить от него взамен выгоду. Именно это позволяет любому существу делиться с другими своим сокровищем.
Такой тип отношений также ведет к написанию истории, потому что дает всем жизнь через медленное прорастание, события, резкие перемены, откровения и т. д. Жизнь, проистекающая из завета, обретает свою значимость, энергию и способность рождать что-то новое. Когда командует именно милосердие, те, о ком часто забывают, получают действительно центральное место. Поскольку именно они заставляют нас отказаться от логики расчета; они возвращают нас к источнику, к истине отношений, дарующих истинную жизнь. Это происходит с радостью и миром, даруемым во встрече с самыми слабыми.
Открыть заново связи, зовущие к существованию
Посредством термина «завет» открывается заново способ по-настоящему взять на себя обязательство за другого так, чтобы он чувствовал себя призванным и тоже мог открыть в себе способность призывать других. В нынешнюю эпоху узы завета могут быть подвергнуты серьезному испытанию, порой быть целью коммерциализации, нередко недооцениваться. Хотя именно они позволяют проявиться уникальности каждого не в форме монолога, длительного личного поиска самого себя, но уже в отношениях. Это может принимать форму общего дела. Следует также суметь сформировать мир, где каждый призван вносить тот вклад, который способен дать лишь он.
Милосердие орошает политическое поле, где обычно ему с трудом удается заставить услышать свой голос: голос, вещающий, прежде всего, не с позиции силы, а на основе доверия, ведя к справедливости. В перспективе милосердия мир можно видеть как цепь призваний, которыми мы постоянно возрождаемся в бытие. Оно перестает быть полем для состязаний. Важность, придаваемая этим связям, способным продвигать уникальность существ, обязывает отказаться от видения — общепринятого в политической философии — действующего лица как индивидуума, изначально с головы до ног снаряженного для работы в мире. Действительно, никто не мог говорить, будучи не призванным к этому. Мы не рождаемся уже взрослыми, словно монады, способные жить без других. Мы рождаемся, завися от других для выживания, и даже если, взрослея, мы в итоге забываем об этом, остается тот факт, что наше счастье и наша жизнь всегда обусловлены отношениями.
Давайте вновь откроем, насколько мы зависим друг от друга, какая лежит ответственность на нас, человеческих существах, обладающих способностью призывать к ней других. Один человек, проживший долгое время на улице, выражал эту мысль так: «Я на пути к обретению себя самого заново; верю, что уже хватит. Потому что, потеряв самого себя, теряешь и других, в итоге после всего на самом деле именно другие помогают тебе снова найти себя. И, обретая вновь других, мы обретаем себя. Наконец, не знаю, но говорю, что нельзя любить себя самого, не любя других»[9]. Этот мужчина демонстрирует глубокую мудрость, плод приобретенного опыта: действительно, существует тесная связь между потерей себя самого и утратой других. И наоборот: обретение заново других позволяет обрести заново самого себя.
Безусловно, настаивать на важности связей не означает отказываться от любых расчетов и мечтать об обществе без отчетности. Это означало бы игнорировать справедливость во имя милосердия. Действительно, ни одно общество не может отказаться от средств измерения и, тем более, от коммерческого обмена и транзакций. Но общество становится идолопоклонником, начав думать, что именно классификация по разным сравнительным шкалам провозглашает истину о том, кто мы есть, и дарует нам жизнь.
Милосердие обновляет знание Бога
Какие черты Бога особо подчеркивают эти три пункта, которым милосердие призывает нас сегодня уделять особое внимание? Обязательство в отношении тех, кто «не считается», контрастирует с превалирующими в каждом обществе способами квалификации. Они не говорят истину ни о действующих лицах, поскольку все время избегают их уникальности, ни о том, что действительно дает жизнь, так как классификация стремится зафиксировать людей на позициях, не позволяющих быть свободными. Действительно, те, на кого ориентируются, стоящие на вершине такого рода классификационной шкалы, часто демонстративно выражают неудовлетворение. Несомненно, это неудовольствие порождает дискуссии о том, как считать. Никто из них до конца не соответствует шкале, каждого можно обсуждать на основе других критериев, более широких и уважительных. Подобные постоянные переговоры небесполезны и отчасти способствуют развитию справедливости.
Но милосердие намного радикальнее критикует классификационные системы: обсуждать нужно не столько способ расчетов, сколько сам факт подсчета. Точнее говоря, она обсуждает тот факт, что разным критериям, на которые можно сослаться (эффективность, рыночная стоимость, признание, социальный авторитет, способность к влиянию[10]), придается непропорциональный вес, словно наша жизнь зависит от них. Милосердие против того, чтобы эти критерии предлагались как окончательный ориентир, поскольку плохая раскладка в соответствии с одним из этих критериев вызывает отторжение того, что заслуживает интереса. Оно открывает тот факт, что речь идет попросту о современной версии идола.
С другой стороны, радость и плодотворность, рождающиеся из пути, проделанном вместе с теми, «кто не считается», дает войти в реальность проблемы истины: что оказывается истинным в ходе наших многочисленных связей? Не то ли, что мы вступаем в обмен, делясь немного тем, кем мы есть, и тем, что постоянно от нас ускользает? Может, эта радость указывает, что здесь находятся надежные основания, на которых нужно строить? Речь идет о парадоксальном феномене, поскольку никто не может претендовать на то, чтобы держать под контролем игру призывов друг к другу.
Разве не следует искать истину именно в таком «отпускании добычи»? Тогда истина открывается живой, а не суровой, счастливой, а не манипулирующей, смиренной, а не заносчивой, мягкой, а не брутальной. Эта истина творческая, рождает совершенно особый мир. Она крепко связана с любовью, поскольку верно, что «истина — процесс, касающийся отношений между людьми»[11]. Истина о нашем Боге разве имеет не такую форму и не такой колорит? Это нечто совсем отличное от истины, представляющейся «спустившейся свыше», но, в конечном счете, несущей в себе нечто насильственное. Путь вместе с теми, кого обычно забывают, позволяет приступить к иной истине — той, которая стоит больше на стороне доверия, чем уверенности; отсюда открывается путь доступа к живому и истинному Богу — к Тому, Кто есть любовь.
Заразительный Бог
Узы любви позволяют приобрести опыт свободы. В первую очередь потому, что радикально релятивизируют любые претензии на успех, образы, представляющиеся образцами (и которые нередко оказываются маленькими тиранами). Но опыт свободы, начатый милосердием, на этом не останавливается. Любовь всегда ассоциируется с обязательством и, следовательно, с решениями, предполагающими реализацию свободы. Если же любовь остается просто мимолетным чувством, то это неподлинная любовь. Любимый таким образом хорошо это знает, открыв, что его свели на уровень объекта для удовлетворения фантазий. Творить историю с самыми слабыми — значит вступать в отношения завета. Такая связь должна быть без предварительных условий (я стараюсь не для того, чтобы получить от тебя результат, а только потому, что ты есть ты), без четкой даты окончания (мое обязательство — не срочный договор) и быть способной преодолевать разочарования и неполученные ответы.
Тип обязательства, к которому ведет милосердие, позволяет нам заново открыть нашего Бога как Того, «Кто заключает завет», Кто всегда старается восстанавливать с человечеством подвергнутые угрозе узы. Для этого Он рискует Самим Собой перед лицом Своего народа, без условий вступая в отношения, которые не намеревается подвергнуть сомнению, каков бы ни был ответ или даже отсутствие ответа. И когда он предлагает Себя таким образом, то просит взамен слово, в котором могло бы эхом звучать Его собственное — и даже больше — слово, просит открытости всего существа к другому. Он держит пари о способности своего собеседника отвечать Ему тем же расположением, с которым Он обращается к нему. С самого начала Он видит в другом свободное существо, способное, как и Он, брать на себя обязательства из глубины своего бытия.
Так Бог, предлагая Свою освобождающую любовь, разделяет с человечеством то, кем Он есть по сути. Давая собеседнику возможность привязаться, в свою очередь, как Он Сам, вводит его в собственный модус бытия и позволяет ему включиться в тринитарный танец. И правда, наш Бог заразителен. Узы милосердия, которые мы переживаем, — источник, позволяющий проверить на подлинность плодотворность связи завета. Можно сказать намного проще: в милосердии заключается посвящение естественному величию, Божественной жизни.
Замечательная мощь
Испытание временем позволяет нам также видеть результаты связи завета. Она позволяет рождаться существам, обладающим мужеством говорить, делиться с другими тем, что они несут в себе, и даже тем, кто они есть. Именно так возможно ощутить уникальность каждого: никогда не обнаженную полностью, всегда немного таинственную, способную удивлять и до самого конца вызывать изумление. Именно в этом проявляется мощь Божия, событие Его любви. В целом, эта мощь должна противостоять бурям и переосмыслениям разного рода, это знак, что любовь всегда в борьбе: против недоверия, страха, против уверенности в безопасности форм семейной жизни, приковывающих нас к привычкам. Но любовь никогда не сдается. Ее сила в наивысшей степени выразила себя на кресте.
Там отражения закрытости деликатно переворачиваются, чтобы обрести противоположное тому, к чему они стремились. Они хотели захватить, овладеть тем человеком и заставить его слова, вызывающие раздражение, замолчать: что же, вот он полностью подчинен их суждению. Точно так же и насилие ведет к этому дару: распадается его цель, то есть стремление заставить молчать. Напротив, вот самые прекрасные из когда-либо произнесенных слов завета: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается» (Лк 22, 19). «Сия чаша есть новый завет в Моей Крови» (1 Кор 11, 25). И вот, жестокий человек может вновь оказаться здесь, попросту принимая Чашу, извлекая благо из этого Дара: именно это происходит с центурионом у подножия креста (см. Мк 15, 39). Тем самым он освобожден от греха не через унизительную капитуляцию, а потому что Бог сохраняет Свое приглашение до самого конца, до сердцевины наших отказов, и потому что на все наши отказы у Него единственный ответ — повторить еще раз: «Я дорожу тобой!»
Желание служить милосердием проявляет разные черты Лика Божия, из которых мы привели выше три: истина, проходящая через сердце, и свобода человека; завет, приглашающий погрузиться в Самого Бога; сила, предлагающая вывести изнутри замкнутость и жестокость, ради этого становящаяся радикально уязвимой. Разве все это не требует определенного образа бытия в мире, жизни и действия в нем?
Образ существования в мире
Мы видели, что милосердие открывает первостепенную важность отношений в духе завета. Если мы поставим на первый план такой тип отношений, разве нам не придется посмотреть на человека в ином свете? В отличие от индивидуума, делающего все в одиночку и навязывающего себя другим, как нам представляет реклама, человеческое существо должно признаваться как субъект, развивающийся в ответ на полученную любовь. Он — «существо-в-ответ», чья уникальность не перестает утверждаться, но чья идентичность заключается ни в нем самом, ни в его собеседниках, а, скорее, в игре их взаимоотношений. И невозможно точно знать, каков его долг по отношению к той или иной личности. Проблему его идентичности можно, наконец, признать как второстепенную по сравнению с тем, что происходит в его общей истории с другим человеком. Происходящее можно назвать рождением в прямом и переносном смыслах.
Верующий приобретает подобный опыт как со своим Богом, так и с теми, кого встречает, особенно с теми, с кем считаются меньше всего. Приобретает этот опыт, отвечая на их призывы, но и сам обретает свободу звать (и в этом случае как Бога, так и своих братьев). И его ответ — одновременно новое слово, прежде неслыханное, обладающее силой первого зова. Именно так мы следуем вместе по общему пути на земле. Опыт милосердия, путь, проделанный с самыми нуждающимися, встреча с зовущим Богом, призывающим к завету, обязывают нас радикализировать чувство справедливости.
Наконец, открытие: речь идет не только о вознаграждении за качественную работу, а о том, чтобы у каждого была возможность поделиться собственной уникальностью, которую он несет в себе и сегодня может только интуитивно о ней догадываться. Это открывает дорогу утопическому городу, организованному так, что каждый из его членов призван вносить в общее дело собственный особенный вклад. В конечном счете справедливость оказывается проблемой участия всех в жизни города. Эта утопия непрерывно ищет воплощения в политике, всегда несовершенного, к ней стремятся как к горизонту. Милосердие не ограничивается уровнем межличностных взаимоотношений, но стремится оплодотворить в том числе способ организации общежития.
Каким образом общество своими структурами, взаимодействием институтов, законами, регулированием обмена стремится призвать каждого своего члена — начиная с самых незащищенных — вносить свой особый вклад? Эта перспектива позволяет более спокойно реагировать на напряженность и конфликты: если мы признаем, что, в конечном счете, не столкновение показывает, кто мы, а истина, заключенная в завете, к которому мы все призваны, то мы сможем не соглашаться и спорить друг с другом, порой даже резко. Но в этом случае несогласие перестает быть драмой, ставящей все под сомнение.
Желание дать больше пространства милосердию и проявляющемуся в нем Лику Божию вдохновляет признавать важность истории, длительному времени свобод, к которым стремятся и к которым неустанно призывают. Для истинного разговора об истории необходимо усилие. Не в волюнтаристском смысле как о целях, которых нужно достичь, требующих полного самоотречения и нередко оставляющих действующих лиц истощенными и огорченными, но в значении свободы, питающейся в отношениях с другими, как видно из связи завета. Если этого нет, то все происходящее не выдерживает и разрывается на множество фрагментов, которые невозможно никому рассказать. Ткань истинной истории предполагает также празднования, события, в которых дар признается и принимается со всей присущей ему радостью: «Праздник, напротив, создает общину. Объединяет и связывает людей. Чувство праздника — всегда чувство общности, ощущение себя как мы»[12]. Это также предполагает прощение, потому что мы никогда не на высоте в плане милосердия. Прощение как умиротворенное признание того, что Бог намного больше нашего сердца.
Заключение
Милосердие, если мы позволяем ему струиться в нас и не прячем его в глубине наших сердец, становится диаконией. Оно очень конкретно проявляет путь Того, Кто пришел служить, то есть восстановить узы завета, вплоть до самопожертвования жизнью ради многих (см. Мк 10, 45). Милосердие — важный «богословский локус», поскольку ведет нас по Его пути. Сегодня, без сомнения, милосердие — наилучший способ говорить о живом и истинном Боге, о Боге освобождающем, о «животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее» (Рим 4, 17).
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Luoghi teologici, in P. Coda (ed.), Dizionario critico di teologia, Roma, Borla — Città Nuova, 2005, 785.
[2] В своем важнейшем труде, De locis theologicis, опубликованном в Саламанке в 1563 году, он определяет 10 локусов.
[3] II Ватиканский Вселенский Собор, Dei Verbum, п. 2; курсив наш.
[4] Бенедикт XVI, Энциклика Deus caritas est, n. 25.
[5] Cfr B.-C. Han, Vita contemplativa o dell’inazione, Milano, Nottetempo, 2023, 104.
[6] См. Декларация Абу-Даби, Человеческое братство для мира во всем мире и для совместного жительства, 4 февраля 2019 г.: «Поэтому просим всех прекратить эксплуатировать религии ради разжигания ненависти, насилия, экстремизма».
[7] H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Milano, Bompiani, 1994, 129.
[8] О понятии социальной невидимости см. G. Le Blanc, L’invisibilité sociale, Paris, PUF, 2009; A. Honneth, Invisibilité: sur l’épistémologie de la «reconnaissance», in Réseaux, n. 129–130, 2005, 39–57.
[9] См. отрывок DVD-фильма Paroles de vie, выпущенного Secours Catholique Caritas France et RCF Méditerranée pour la Délégation du Var (2004).
[10] Cfr L. Boltanski — L. Thévenot, Finding one’s way in social space: a study based on games, in Social Science Information 22 (1983) 631–680.
[11] Cfr B.-C. Han, Vita contemplativa o dell’inazione, cit., 21.
[12] Cfr B.-C. Han, Vita contemplativa o dell’inazione, cit., 79 s.