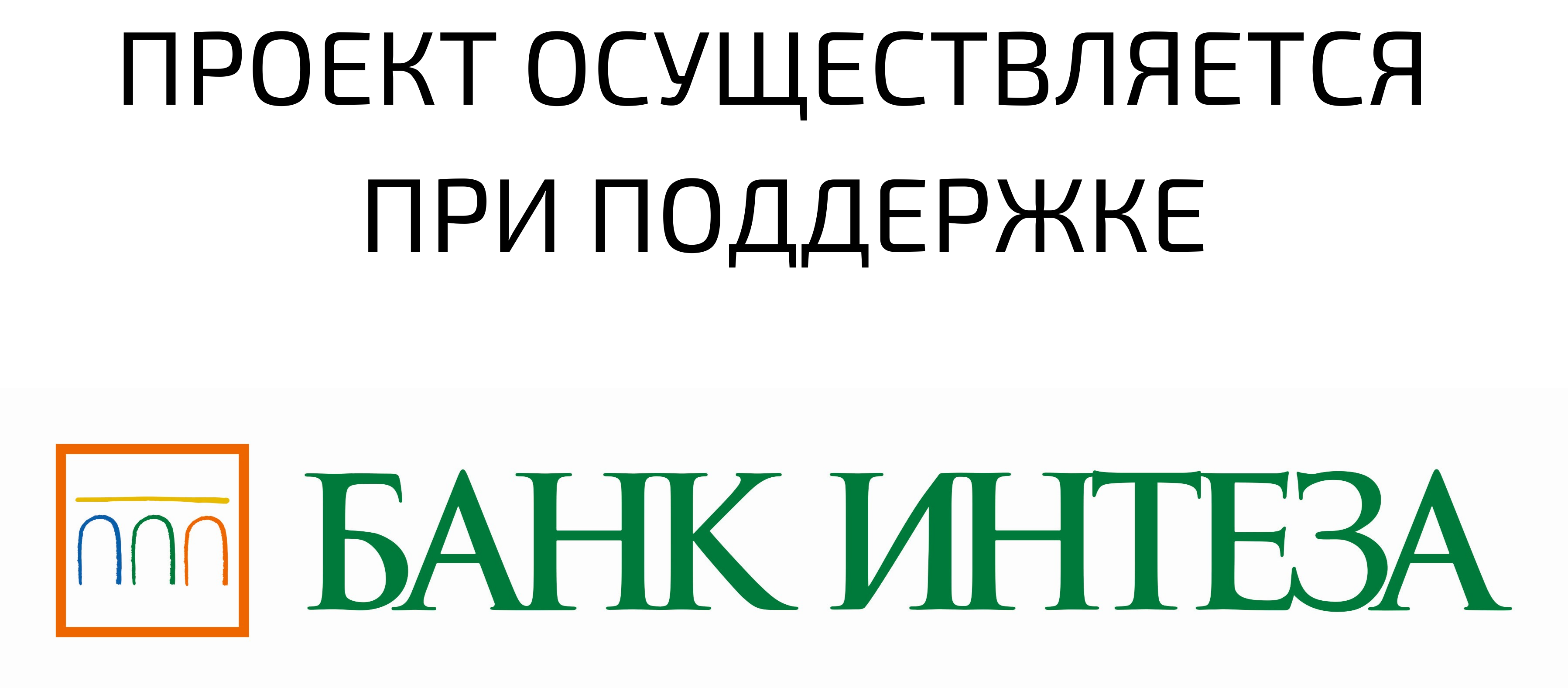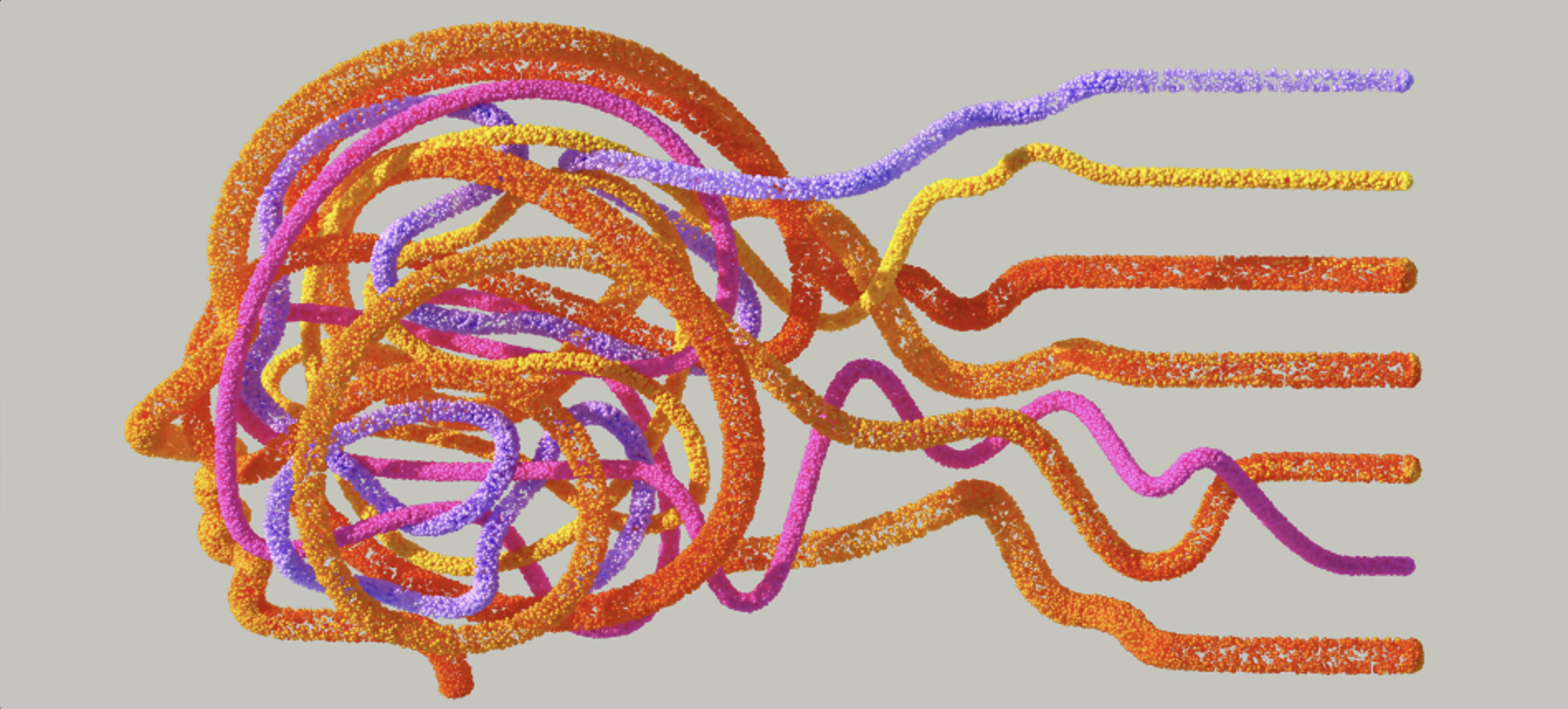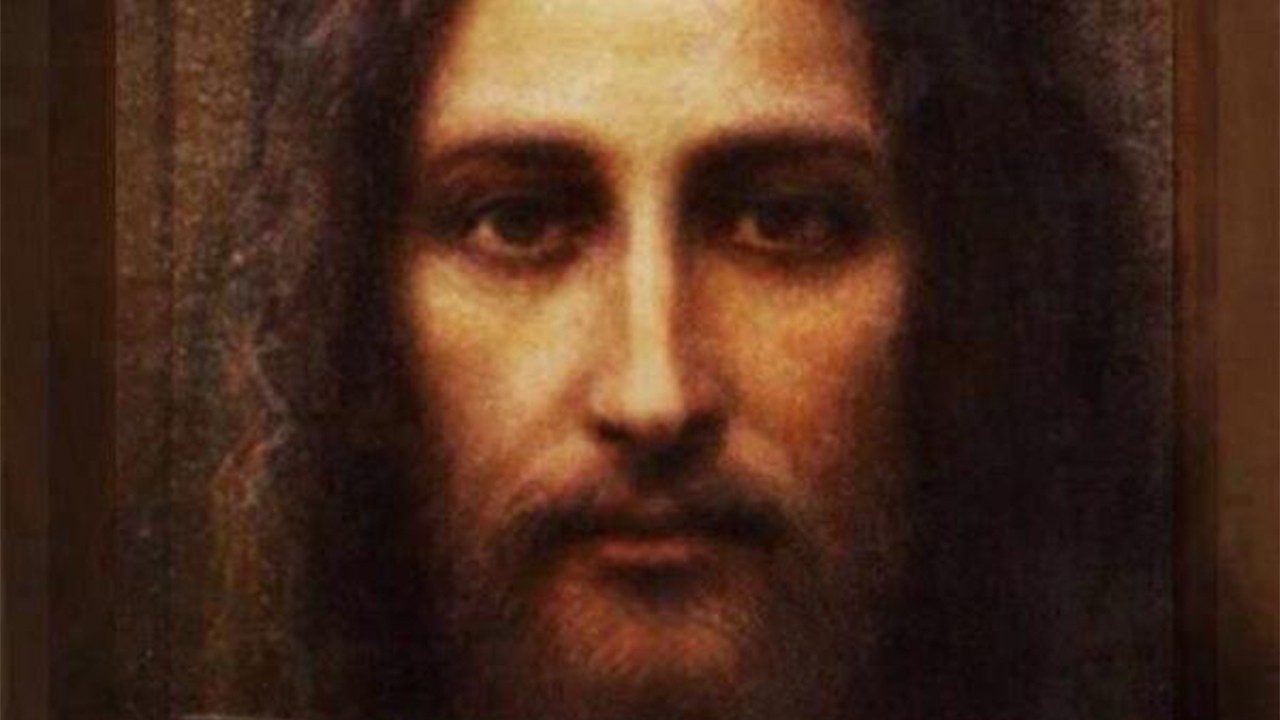Франсуа Эве SJ
Понятие вины, хотя и неоднозначное, сопровождает рост человеческой личности. Оно подсказывает, что невозможно стать человеком без отношений с другими – всегда сложных, неоднозначных, отчасти неуспешных. Выйти из тупика помогут два новых слова: исповедь и прощение. Великие идеалы мира и справедливости, живущие в сердце каждого человека, остаются руководством к действию; вина может нам об этом напомнить. Автор — декан богословского факультета в парижском Центре Севр.
***
Христианство порой обвиняют в том, что оно по своей сути враждебно жизни. Помещая спасение в недостижимую «потусторонность», оно якобы призывает отвергнуть этот мир, реальную жизнь, ради мира идеального, ради «неба» в ущерб «земле». Следовательно, несмотря на уверения в обратном, христианство якобы презирает тело, поощряет нездоровый аскетизм, культивирует страдание. Подкармливает постоянное чувство вины, которое напоминает человеку, что он грешник, и удерживает его в зависимости от всемогущего божества. Вина якобы подразумевает некую слабость, малодушие, капитуляцию в ответ на призыв жизни. Согласно Ницше, «чувствовать себя виноватым — значит отвергать жизнь»[1].
Чувство в упадке
А жизнь — разве это не экспансия, автономия, свобода? Разве не старается человечество веками освободиться от природной обусловленности, от страха перед неизвестными силами, державшими его в рабстве? Научное познание природы, а затем и человека, позволяет господствовать над этими силами, помогая «просвещенному» человечеству перейти из младенчества в зрелый возраст. Не бывает зла непобедимого, недоступного человеческому укрощению. Несчастье, поражающее людской род, — не следствие прежней вины, греховного прошлого, в котором мы навсегда виноваты.
Если всё еще есть виновные, осуждаемые законом, мы считаем их скорее жертвами несправедливости, жестокого обращения или неправильного воспитания, чем лицами, полностью ответственными за свои действия. Наше время охотнее сострадает жертвам, чем наказывает виновных (хотя все может быстро перевернуться, если распространяется коллективный страх за свою безопасность). Некто совершает акты педофилии, потому что сам в детстве был жертвой злоупотреблений. Преступное действие реально, но мотив надо искать скорее в сложном переплетении причин, чем исключительно в извращенной воле человека.
Есть и другие элементы, способствующие нынешнему упадку чувства вины (а то и усугубляющие). Будущее стало гораздо менее ясным и предсказуемым. Крах великих утопий подкосил надежду на коренное преображение несправедливого порядка в мире. Хуже того, мы начинаем замечать, что системы, предназначенные для улучшения нашей жизни, плоды научно-технического прогресса, даже самые идеологически «нейтральные» (в отличие от тех утопий), в конце концов оборачиваются против человечества. Мы-то думали, что управляем ходом событий и заранее предсказывали этапы своего поступательного движения к лучшему будущему, а теперь ошеломлены происходящим: нас как будто ведет злая судьба. Вместо прогресса — катастрофа.
Точно ли мы за это в ответе? Конечно, именно человеческие действия ставят под угрозу благополучие человечества. Но эти действия так сцеплены, а причинно-следственные связи так запутаны, что почти невозможно вычленить индивидуальную ответственность. Если эксперты единодушно утверждают, что глобальное потепление вызвано человеческим фактором, кто на самом деле почувствует себя виноватым? Всегда можно обличить тех или этих: отдельных людей, правительства, большие промышленные группы, но сложность задействованных систем и слишком большое число параметров приводят к тому, что противоположные аргументы можно приводить с той же убедительностью. Коллективная вина размывает индивидуальную ответственность. Кроме того, всегда можно думать, что дело в несчастном стечении обстоятельств, а не в чьей-то ответственности. Или же вина столь очевидна, что парализует любую инициативу. Как отрицание вины, так и ее переизбыток ведут к бездействию.
Вглядываясь в эту тревожную и большей частью еще не известную перспективу, разве не разумнее сделать ставку на непосредственную «жизнь», здесь и сейчас, вместо того чтобы думать о великих преобразованиях, требующих жертв в настоящем ради будущей пользы, далекой и негарантированной? Разве христианство, помещая спасение на «эсхатологический» горизонт, не мешает полноценно пользоваться нынешней жизнью? Зачем откладывать на завтра то, что можно получить сегодня?
С одной стороны, ссылаться на закон стало проблематично, с другой — последствия наших дел слишком усложнились, чтобы их оценивать. Разве не стало чувство вины тяжеловесным бесполезным грузом, который не дает ярко жить в настоящий момент?
Каким мы видим человека?
Современное христианство учло критику в адрес чувства вины. Стало приветливее к людям. Христианское учение о человеке теперь позитивнее, чем в прошлые века. Понятие греха в упадке. «Пастырству страха», царившему в умах, пришло на смену пастырство милосердия. Кстати вспомнили, что Иисус, согласно евангельским рассказам, особенно приветлив к жертвам и менее склонен обвинять, чем Его противники. В этих рассказах прощение заметно преобладает над судом.
Что же касается вины, тут христианство совершает полный переворот, как подчеркивает Йозеф Ратцингер: «Почти все религии строятся вокруг проблемы искупления, рождаются из осознания человеком своей вины перед Богом и представляют собой попытку положить конец этому чувству вины, перечеркнув грех искупительными делами, подносимыми Богу»[2]. А христианское богослужение — это благодарение; мы сначала признаем, что получили дар, а потом уже преподносим Богу свое, человеческое действие. Евангелие показывает: не столько грешники идут к Спасителю, желая узнать, что им сделать, чтобы перестать грешить, сколько Спаситель приближается к ним и говорит, что Бог уже простил, еще до любого человеческого искупительного действия[3].
Впрочем, нужно признать, что реальная жизнь не всегда совпадает с этой великодушной программой. Пастырству страха соответствует «янсенистский» взгляд на человека, надолго повлиявший на умы, хотя и твердо осужденный в богословском плане. Следовало бы задуматься над парадоксальным успехом этого учения, при том что, казалось бы, его моральный ригоризм должен отталкивать. Возможно, причина не в морали, а в системе изложения: одна из ее впечатляющих особенностей — глубокая рациональность. В несомненно экстремальной форме янсенизм откликается на важную тенденцию, характерную для западной мысли, начиная с греческой античности: утверждать превосходство духа над телом, разума над чувствами, умственного над физическим. Янсенизм, как и прочие подобные учения, — школа самообладания, защищающая человека от того, что не поддается его контролю. Вырастающая отсюда нравственная система может показаться тяжкой в своей строгости, но преимущество ее в том, что она полностью размечает пространство действия. Здесь картина мира простая и ясная — неудивительно, что привлекательная. Бинарные системы эффективнее тех, что учитывают неустранимую сложность.
Во многих отношениях янсенизм созвучен менталитету Нового времени: человек действия всегда стремится к какой-нибудь цели, вечно не удовлетворен полученными результатами, виноват, что не сделал больше. Чувство вины мешает наслаждаться жизнью здесь и сейчас, зато заставляет горячее желать иного будущего.
Это показывает, насколько чувство вины амбивалентно. Оно прежде всего присутствует в нашей жизни «как самобытный спонтанный механизм, над которым субъект не имеет никакой власти»[4]. Желая обойтись без него, мы попадаем в ловушку идеальной схемы, обещающей полностью разъяснить сложность души. Распознав чувство вины, надо его оценить. Оно бывает «плохим» и мешает жить. Но бывает и «хорошее» чувство вины: привлекая внимание к ответственности, оно содействует пробуждению подлинной свободы. В свою очередь, «хорошее» чувство вины должно ответить на вопросы: как осуществляется эта свобода? В чью пользу?
От свободы к совести
Чувство вины — не христианское изобретение, а фундаментальный антропологический факт[5], но христианство его преобразовало. Широко признанная заслуга Библии в этом отношении — подчеркивание личной ответственности.
Удивительно, какую важность придает антропология первых христианских веков понятию свободы. Оно не чуждо античной мысли, однако там остается преимущественно «космологическим». Человек принадлежит к космосу и должен стараться жить в гармонии с ним. Таким же образом послушание гражданским законам — фундаментальный компонент доброй жизни. Могут возникать конфликты между этими законами и индивидуальной совестью, как в показательном случае Антигоны, но разрешение таких конфликтов всегда трагично.
Христианство, исходя из библейского наследия, утверждает, что мир возник по творческой воле личного Бога. Бог как личное бытие свободен, у Него есть воля, в Нем берет начало все существующее. Теперь никакой злой рок не правит миром, потому что Бог — господин истории. Действие христианина уже не зависит от «стихий мира». Судьба человека, сотворенного по образу Божию, не записана в звездах.
Христианское богословие четко отличает человека от остальной природы. Его свобода не похищена у божества, как в мифе о Прометее, не завоевана трагически, но «изначальна»[6]. Поэтому можно преображать порядок вещей; в порядке тварного мира больше нет постоянной, неприкосновенной «природы».
И тут подчеркивать свободу человека — значит возлагать на него большую ответственность. Человек ответствен за свои действия. Иустин, убеждая собеседника-язычника признать свободу человеческой личности, прибегает к такому аргументу: «Ведь мы видим, что человек переходит от одного поведения к противоположному. Если бы было предрешено ему быть либо злым, либо добрым, никогда бы он не вел себя по-разному, не переменялся бы много раз. Не было бы ни добрых, ни злых, поскольку было бы показано, что и добру, и злу причиной судьба, а потому она противоречива сама в себе»[7]. Если поведение человека меняется, значит, оно не зависит от необходимой судьбы.
С понятием свободы тесно связано понятие совести. «Отцы-пустынники», монахи IV века, ведя отшельническую жизнь, размышляют над внутренними движениями души и разрабатывают первые испытания совести. Верно, что постоянные усилия ради достижения нравственного совершенства принуждают направлять больше внимания на недостатки и дефекты, чем на добрые качества… Список грехов впечатляет своей точностью. Плодотворно развивается рассуждение о грехах, называемых «капитальными», потому что они в голове (caput), то есть в основе всех реально совершаемых грехов. Именно внутренние склонности личности, по обстоятельствам, подталкивают к действию в том или ином направлении[8].
Наследию монашеского предания предстояла долгая и богатая жизнь. Так, наследниками отцов-пустынников стали ирландские монахи: начиная с VIII века, они разрабатывают систему личного исповедания грехов по точному каталогу. Внимательное исследование собственной совести — уже не исключительная прерогатива монахов-аскетов, оно становится (или должно становиться) повседневной практикой каждого настоящего христианина. Эта практика может быть парализующей, если чувство вины душит совесть, но может и доставлять пользу, если помогает обнаружить недостатки, к которым мы снова и снова возвращаемся.
Неоднозначность суждения
Ответственность ведет к формулированию суждения. Умение принимать решения — насущная необходимость в каждой человеческой жизни, которая формируется согласно предпринятым действиям. В этом проявляется свобода, строящая личность: «Подлинно свободное действие человека есть то, каким он выбирает себя»[9]. Действовать — значит выбирать из разных альтернатив, часто сводимых к двум. Важно не оставаться в нерешительности, как сказано в Евангелии: «Но да будет слово ваше: „да, да”; „нет, нет”» (Мф 5, 37). Определиться — значит выйти из тумана, где все всему равно. Отвергнуть нерешительность, позицию зрителя, который ни во что не вмешивается, — возможно, более удобную, но в итоге неудовлетворительную. Придать времени собственно историческое измерение: теперь есть «до» и «после» принятия решения.
Суждение необходимо, но никогда нет уверенности в его истинности. Здесь нужно обратить внимание на его бинарный характер. Он создает впечатление, что все ситуации сводятся к альтернативе между да и нет. Логика работает (это логика действия), но пренебрегает сложностью реальности. Зритель, не берущий на себя ответственности, не без оснований может быть чувствительнее, чем «человек дела», к этой сложности, к слишком большому числу параметров, которые надо учесть, прежде чем «решиться». Это уместное промедление; оно проблематично, если ведет к отказу от действия, но объяснимо.
Проблема возникает, когда действие наталкивается на свои границы. Человек дела чувствует себя всемогущим. Мы уже видели, что христианство как будто поощряет это чувство, когда говорит, что человек сотворен по образу свободного и всемогущего Творца и призван «обладать» и «владычествовать» над другими созданиями (ср. Быт 1, 28).
Всякое реальное действие рано или поздно сталкивается с границами. Они могут быть внешними (сопротивление того, на что направлено действие) или внутренними (слабость, болезнь) и заставляют в какой-то мере испытать бессилие. Опыт ограниченности может привести к осознанию того, что сила амбивалентна: иногда ее применяют в ущерб другим, даже не отдавая себе в этом отчета. Закон, ограничивающий сферу действия, защищает слабого от неумеренных поползновений сильного. Таков смысл нескольких библейских заповедей, сводимых к формулировке: «Не пожелай чужого». Запрет — основополагающий компонент воспитания, помогающий ребенку понять, что он в мире не один.
Чувство вины проистекает из нарушения этих границ. Совершение запрещенного действия заставляет чувствовать себя виноватым. Однако можно ли стать человеком вообще без преодоления границ, без нарушения в какой-то форме? Эта тема поднимается в начале христианства, в отношениях христиан с иудейским законом. В Деяниях апостолов Петру было видение с призывом есть животных, почитаемых нечистыми согласно этому закону (ср. Деян 10). Кто осмелится нарушить столь важную божественную заповедь? Но Петр осознает, что подчинение этому закону мешает ему вступить в общение с «язычниками», которые тоже могут получить пользу от доброй вести о спасении.
От личности к отношениям
Проблема вины не может оставаться замкнутой в индивидуальной перспективе, когда стремятся обеспечить себе спасение господством над собственной судьбой. «Всякий идеал, устремленный к совершенству и абсолюту-в-себе, противится отношениям, которые всегда с кем-то, непредсказуемы, а значит не подлежат контролю прежде встречи»[10]. Нельзя быть судьей самому себе. Карл Барт не побоялся заявить: «Грех — в любой форме — происходит из упрямого желания человека быть судьей самому себе»[11]. Суждение — это путь, одновременно индивидуальный, поскольку требует занять определенную позицию, взять ответственность за свое слово, и связанный с отношениями, так как человек существует только в отношениях с другими. Иисус судит «по истине», потому что Он «не один» (ср. Ин 8, 16).
Таков суд Божий. Бог не потому лучший судья над нашими действиями, что Он всеведущ. Так рассуждать — значит проецировать на Него образ тотальной прозрачности. Лучше бы отказаться от этого образа: «Бог смотрит» — обычно имеют в виду: обвиняет. Вспоминается знаменитая строка Виктора Гюго: «Глаз был в могиле и смотрел на Каина». Показательно, что во многих церквах Бог, невидимый, изображен как единственный глаз в центре треугольника («видит, но сам невидим»). Сартр справедливо отвергал эту «божественную» фигуру, а на самом деле идола, поскольку это проекция человеческих образов: «Тревожный и исследующий взгляд истощает настолько, что все бытие сводится только к зрелищу для других»[12].
Наша жизнь протекает под взглядами других. Ребенок действует и судит о своем действии под взглядом родителей. Каков этот взгляд? Он ободряет, помогает сделать первые шаги, зовет — как Иисус приглашает Петра выйти из лодки и пойти по воде (ср. Мф 14, 22-33)? Или же этот взгляд судит, и в нем ребенок видит разрыв между тем, что он делает, и тем, что должен делать? Представления, вытекающие из этого раннего опыта, останутся впечатанными в память.
Тем, кого мы называем «святыми», присуща доброжелательность к другим. В крайнем проявлении это неспособность видеть чужие недостатки[13], противоположность готовности увидеть «сучок» в глазу брата, не замечая «бревна» в собственном глазу (ср. Мф 7, 3). Настойчиво указывать на дефект, недостаток в другом человеке — значит ставить себя над ним, его судьей, но также значит разводить отношения на непреодолимое расстояние, поскольку суждение мешает достичь полной солидарности.
Признание общего бедствия устанавливает «братские отношения»[14]. Если суждение отдаляет, то милосердие сближает. Насилие разделяет человечество, противопоставляя одних людей другим. Отвечать на насилие насилием — значит только усугублять это разделение. Мир, полученный таким способом, недолговечен. С другой стороны, принимать насилие как неизбежность, как свойство человеческого состояния — тоже не выход. В этом случае мы не оставляем себе никаких средств положить ему конец. Правильное отношение — отказ от насилия, который может сопровождаться принятием агрессивного человека, поскольку он — человеческое существо и его нельзя отождествлять с его действием. Таково слово прощения, соединяющее с суждением о действии милосердие к тому, кто действует. В евангельском рассказе насилие достигает кульминации в конце, с убийством невиновного «без причины», и тем самым показывает свою истинную природу. Желающим выкинуть Его из человеческого сообщества Иисус отвечает словом прощения: это значит, что Он не хочет разрывать отношения, поскольку не может быть подлинно человеческой жизни без попыток установить общение. Молиться за своих палачей — не отказ видеть зло, ими творимое, и не проявление слабости, не уклонение от боя, а надежда на возможную перемену. Солдату, ударившему Иисуса по щеке, Тот отвечает вопросом: «Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» (Ин 18, 23).
В отличие от всеведущего взгляда, который ничего не хочет оставить в тени, хочет исследовать темные углы души, навязывает свое настойчивое присутствие, взгляд Бога, если можно так выразиться, отступает, отсутствует. Божие присутствие не навязчиво. В этом состоит Его инаковость, Его «трансцендентность». Он, в отличие от идола, не образец для рабского воспроизведения. «Парадокс христианской религии в том, что она учреждена отсутствием», — пишет Жозеф Муа[15]. История первой христианской общины, рассказанная в Деяниях апостолов, начинается с убытия, «Вознесения». Апостолы продолжают историю Иисуса по-своему в отсутствие «учителя». Физическое отсутствие Иисуса побуждает выстраивать собственную историю, говорить свое слово — не эхо услышанного. Подражать Его образу действий не значит делать «как» Он, а продолжать Его действия по-новому, творчески.
Когда полученный дар стал частью нас самих, его можно вернуть, не возлагая на благополучателя тяжкое бремя подражания в виде долга, обязывающего к равноценной отдаче. Дар «неоценим», поскольку не вписывается в количественные мерки. Даритель присутствует в даре не как фигура, навязывающая свое прошлое присутствие в качестве образца, а как новый, неслыханный образ.
Понятие вины, сколь бы ни было амбивалентным по природе, неизбежно сопровождает рост человеческой личности. Вина «играет незаменимую роль»[16], поскольку показывает, что нельзя стать по-настоящему человеком без отношений с другим — отношений всегда сложных, неоднозначных, отчасти неуспешных, а значит сопровождаемых чувством вины. Отношения многообразны. Если на кону доступ к себе самому, способность утвердить себя и обрести подлинную автономию, говорить «от первого лица» — всегда присоединяются отношения с другими, будь то люди, общество с его традициями и законами и, наконец, Бог — «всецело Другой». Желание быть самим собой, прибегать только к собственным ресурсам неизбежно приводит к ощущению пустоты. Человек не может сконструировать сам себя, разве только в воображении. Это была бы «человеческая свобода, у которой закружилась голова»[17], без предела для ненасытных желаний.
Напрасный труд пытаться устранить всякую вину и восстановить утраченную невинность. Вина — свершившийся факт. Мы за порогом райского состояния, вход охраняют херувимы с «пламенным мечом обращающимся» (Быт 3, 24). Не испытывать никакого чувства вины — значит замкнуться в собственном воображаемом всемогуществе. Примирение — не возвращение в изначальную страну наших снов, а дорога в будущее, на которое мы надеемся, и его начатки уже различимы.
Если вина — признак живых, а потому уязвимых отношений, иллюзорна попытка преодолеть ее, исходя только из себя. Процессы самооправдания ведут в тупик или укрепляют чувство вины, когда мы обнаруживаем, что наши доводы несостоятельны. Самооправдание и самоосуждение (угрызения совести) чреваты одинаковыми последствиями. Нельзя ни осудить, ни спасти себя самого. Чтобы восстановить разлаженные отношения и снять блокировку, нам потребуются новые слова.
Вот они: исповедь и прощение. Оба необходимы, даже нельзя сказать, которое идет первым. Прощение обусловлено исповедью не более, чем исповедь — прощением. Они укрепляют друг друга. Исповедь тем глубже, если ее предваряет ободряющее слово безусловного прощения. А прощение тем искреннее, если основано на предшествующей ему исповеди. К тому же исповедь — двойная: можно признаваться в любви или признавать вину. «Исповедаться другому — всегда значит объявлять, что мы любим его, а себя признавать слабыми, немощными, виновными, даже недостойными той любви, какую к нему питаем и у которой просим помощи ради своего спасения»[18].
Нужно отказаться от грандиозных идеальных конструкций, основывающих надежду на умственных схемах, и рассматривать конкретные ситуации, пусть сложные, в каких находятся люди с их неустранимой уникальностью. «Чувствовать на этой Земле» — чистейшая из радостей[19], потому что хрупкость жизни демонстрирует всю ее тяжесть и ценность. Примем столкновение с загадкой или даже с «абсурдом» человеческого существования, не мечтая о простых и ясных решениях; согласимся идти на ощупь, ошибаться. Но христианская весть также призывает не терять из виду «утопический» горизонт. Если и не вымощена для нас дорога ко всеобщему примирению, в царство мира и справедливости, то эти великие идеалы, живущие в сердце каждого человека, остаются руководством к действию. И вина может об этом напомнить.
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] J. Lacroix, Philosophie de la culpabilité, Paris, Puf, 1977, 13.
[2] J. Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd’hui, Tours, Mame, 1969, 198.
[3] Ср. J. Guillet, Jésus devant sa vie et sa mort, Paris, Aubier-Montaigne, 1971, 77.
[4] L. Basset, Culpabilité, paralysie du cœur, Genève, Labor et fides, 2003, 53.
[5] «Бог не нужен ни чтобы создать чувство вины, ни чтобы наказывать. С этим справляются наши ближние, и мы сами им помогаем» (A. Camus, La chute, Paris, Gallimard, 1972, 116).
[6] A. Gesché, Dieu pour penser. VII. Le sens, Paris, Cerf, 2003, 21.
[7] Giustino, s., I Apologia, XLIII, 5-6.
[8] Ср. F. Euvé, Crainte et tremblement, Paris, Seuil, 2010, 92-106.
[9] J. Lacroix, Philosophie de la culpabilité, цит., 68 сл.
[10] N. Jeammet, Les destins de la culpabilité, Paris, Puf, 1993, 27.
[11] K. Barth, Dogmatique, vol. 17, Genève, Labor et fides, 1966, 232.
[12] J. Lacroix, Philosophie de la culpabilité, цит., 59.
[13] Ср. L. Beirnaert, «Culpabilité», in Dictionnaire de Spiritualité, t. II, Paris, Beauchesne, 1949, 2648.
[14] N. Sarthou-Lajus, L’ éthique de la dette, Paris, Puf, 1997, 181.
[15] J. Moingt, «Le tracé d’une absence», в Christus, n. 171, 1996, 298.
[16] L. Beirnaert, «Culpabilité», цит., 2647.
[17] N. Sarthou-Lajus, La culpabilité, Paris, Colin, 2002, 10.
[18] J. Lacroix, Philosophie de la culpabilité, цит., 77.
[19] Ср. A. Camus, Le mithe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, 83 (in it. Il mito di Sisifo, Milano, Bompiani, 2013).