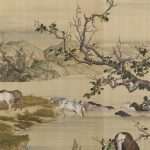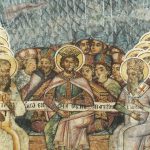Штефан Кихле SJ
В таких секуляризированных европейских странах, как Германия, Бог стал совсем чужим для многих. Он кажется далеким, абстрактным, безличным, нельзя Его понять или к Нему прикоснуться, трудно Его услышать или встретиться с Ним; Он словно зыбкая фантазия, сама по себе простая, но и сложная — тут противоречие; или чистая идея, вдобавок парадоксальная, однако ее невозможно обосновать или продемонстрировать, она уже не годится для нашего мира — функционального, а потому терзаемого кризисами. И нет ответов на глубокие вопросы: если Бог все сотворил хорошим, откуда взялось зло? И почему Бог не покончит со злом, если Он добр и всемогущ? Куда идет мир? Катится в ничто?
Получить доступ к религии, к священному через людей? Это ничуть не проще: люди — например, святые из прошлого или светлые образы из нынешней религиозной жизни — всегда конкретны, поэтому ограничены своей культурой, слабы и грешны, иногда больны. Сегодня верится с трудом, что некоторые люди наставлены свыше и служат указанием на Бога. Современный человек, выросший в современном мире, слишком информирован, слишком реалистичен, слишком критичен.
Личная религия?
И тут легче было бы принять безличную «духовность». В религии больше всего затруднений создает личный элемент, однако в христианстве он неустраним. Но как же тогда вообразить личного Бога в сверхкритичном обществе? Бог — пастырь? Нам скажут, что это образ авторитарный, овцы инфантильны и недооценены. Бог — отец? Кому-то это покажется патриархальным, избыток власти чреват злоупотреблениями, чему пример — многие отцы. Такой образ — триггер для жертв насилия. Да и невозможно его вписать в популярную гендерную перспективу. Бог — отец и мать? Уже получше, но такой образ может показаться слишком «родительским» для нормальных людей и слишком традиционным с социальной точки зрения. Бог — царь, властитель над миром, Кириос (таков был титул римского императора)? И здесь найдутся возражения: это все музейная ветошь или монархические штучки, для правых консерваторов.
А как же Иисус Христос — Человек от Бога, или Сын Божий, или даже Божественная Личность? Бог в облике исторического персонажа? В нынешние времена в такое поверить трудно. Межрелигиозный диалог сегодня почти представляется возможным, только без Иисуса: главные препятствия — воплощение, спасительная смерть на кресте и воскресение, то есть победа над смертью. Нам, христианам, трудно объяснить эти богословские реалии — да и понять их.
Не легче ли приступить к религии через ангелов? В каком-то смысле они конкретны, понятны, их можно себе представить; в то же время приятно анонимны — имена почти никогда не упоминаются, — к тому же андрогины, небинарные, совместимые с понятием queer, или совсем бестелесные, как мимолетное дуновение. Их изображают, в то же время всякое изобразительное средство перед ними бессильно. Они чисты, божественны и добры, но и демоническое зло находит себе место в них. Ангелы не слишком божественны и в то же время не слишком люди. Они имеются во всех основных религиях и духовных учениях, даже в секулярной религии. Годами интерес к ним не спадает: в народной литературе, в эзотерике, в поп-музыке, в рекламе. Благодаря бенедиктинцу Ансельму Грюну почитание ангелов не ушло целиком в эзотерику, но осталось и в христианстве. Христианство — не то, что продолжают понимать под «духовностью»: восхождение в духовную сферу, представляемую безличным образом, — а вера, то есть доверие и предание себя Божеству, причем личностному. Помогут ли ангелы прийти к такой вере[1]?
Ангелы в Библии
Несколько ссылок на Библию послужат введением в христианское понимание ангелов. Когда речь идет о творении мира, ангелы не появляются. А вот после изгнания первых людей из рая херувимы[2] надзирают за его вратами, а главное — за доступом к древу жизни (ср. Быт 3, 24): Бог поставил их защищать миропорядок от человека, зачастую живущего беспорядочно.
Авраама посещают «три мужа» (ср. Быт 18), далее не раз они являют себя как «Господь», и в истории их толковали как ангелов; образ колеблется между божественным и человеческим и долго остается двусмысленным, уклончивым, непонятным. «Три мужа» были истолкованы и как ипостаси Троицы (знаменитая икона Андрея Рублева сохраняет эту интерпретацию в коллективной памяти). Впоследствии Бог испытывает Авраама: велит принести в жертву сына Исаака (ср. Быт 22). Это загадочная история, толкованию она поддается с трудом. Но прямо перед умерщвлением сына «ангел Господень» удерживает Авраама, предоставляет овна для жертвоприношения вместо сына и обещает Божье благословение. Здесь ангел — посланец, по Божьему поручению он прерывает абсурдное «испытание», которому Господь подверг Авраама, и преображает в благословение.
Иакову снится лестница с земли на небо; ангелы по ней поднимаются и спускаются; Бог благословляет Иакова, обещая великое (ср. Быт 18, 10–22). Испокон веков дети спрашивают: зачем ангелам лестница, если у них крылья и они умеют летать? Этот вопрос приводит к парадоксу об ангелах — посредниках между небом и землей: как духовные существа они летают, а как телесные — поднимаются по лестнице.
Эпизод о борьбе Иакова у потока Иавок (ср. Быт 32, 23–22) также построен на двусмысленности: Иаков запятнал себя виной, когда отнял первородство у брата, но теперь он хочет вернуться на Землю обетованную. Для этого надо перейти через реку — границу, символ очищения. Некто борется с ним ночью несколько часов: непонятно, яростно, страшно. Вот и здесь этот «некто» — ангел или Сам Бог? Иаков сопротивляется. Спрашивает, как зовут незнакомца, но тот своего имени не сообщает. Зато Иаков получает новое имя — Израиль, тот, кто боролся с Богом, — и принимает от незнакомца запрошенное благословение. Из битвы Иаков выходит раненым и будет хромать всю жизнь. Этот ангел — опять-таки существо гибридное, таинственное, даже телесное, но приходит ниоткуда и с рассветом снова исчезает в никуда. Ангел-мститель? В наказании — благословение Божие? Ангел ранит Иакова по поручению Всевышнего? Иаков получает метку и в то же время исцеление и благословение.
В книге Товита ангел Рафаил совсем другой. Товия, сын Товита, в трудном положении; ангел сопровождает юношу в путешествии и дает лекарство от слепоты для отца. Таким образом, ангел (чье имя означает «Бог исцелил») одновременно посланец и послание Божьего исцеления и руководства.
Пророк Илия убил по Божьему велению 450 священников Ваала, и теперь его преследуют. Он бежит в пустыню. Устав от жизни и от Божьих приказов, он ложится под можжевеловым кустом, желая умереть, и засыпает. Его будит ангел, дает есть и пить. Илия засыпает снова, и снова ангел его будит, дает еды и отправляет в сорокадневный путь через пустыню, для встречи с Богом на Хориве (ср. 3 Цар 19, 1–13). Ангел противодействует усталости, будит и кормит, наставляет и направляет. Перед Илией он предстает вполне земным существом, однако это несомненно посланец от Бога, чью заботу он являет и чью волю возвещает.
Ангел Гавриил тоже посланник от Бога: он сообщает Марии о чудесном рождении сына, зачатого Духом Святым (ср. Лк 1, 26–38). В тот момент Пресвятой Деве слова ангела вряд ли были понятны, однако они поясняют спасительный смысл этого рождения будущим читателям. Щедрая готовность Марии принять весть неизменно впечатляет во все эпохи христианской истории. Ангел здесь возвещает, так сказать, действенным образом, поскольку одновременно исполняет то, что говорит: Сам Бог действует в нем.
Через девять месяцев Иисус рождается в Вифлееме, и ангел возвещает великую радость (ср. Лк 2, 1–20). Слава Господня осеняет светом пастухов, которых при этом охватил сильный испуг. Ангелы амбивалентны: славные и страшные, светлые и яростные, они сияют Божественным светом и пугают своей мощью. Тут же в Вифлееме многочисленное небесное воинство хвалит Бога: это вместе и военная сила, и могучий хор.
В Библии Иосиф, обручник Марии, — великий молчальник (не говорит ни слова), а также великий сновидец: во сне ангел велит ему принять Марию и ребенка, который не от него; во сне ангел требует бежать в Египет вместе с семьей, потому что ребенок под угрозой; во сне ангел велит им вернуться (ср. Мф 1, 20–24; 2, 13–14.19–29). Тот факт, что ангелы являются во снах, показывает, насколько они мимолетны, нереальны, чисто духовны, но и сколь прочно укоренены в человеческой психике: так Бог говорит с человеком, желая защитить и спасти.
Когда Иисус молится на Елеонской горе, охваченный тяжким страхом смерти, всеми покинутый, Ему является ангел и укрепляет Его (ср. Лк 22, 43). «Укреплять» означает, конечно, Божественное утешение, а также энергию, отвагу, упование, исходящие от Бога. Вскоре Иисуса арестуют. Он запрещает ученикам насильственное сопротивление, замечая, что если бы Он хотел защищаться, то попросил бы Отца, и тот предоставил бы «более, нежели двенадцать легионов ангелов», то есть десятки тысяч (ср. Мф 26, 47–56). Здесь ангелы — вооруженная сила, вполне материальная, всегда в распоряжении Бога и Его Сына, когда Тот попросит. Но Иисус отказывается, не хочет, чтобы Бог действовал силой, избирает ненасильственный путь — отдает Свою жизнь. В руках Божиих ангелы могли бы вершить могучие дела, но Бог их с этой целью не использует, действует иначе.
Пасхальным утром ожидает женщин у пустого гроба, согласно Евангелию от Марка, юноша в белой одежде (ср. Мк 16, 5); у Луки — «два мужа в одеждах блистающих» (Лк 24, 4), а у Матфея — ангел: «Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег», он «отвалил камень от двери гроба», напугал стражников и говорит с женщинами (ср. Мф 28, 1–7); у Иоанна — два ангела в белом сидят там, где было положено тело Иисуса (ср. Ин 20, 12–13). Названы ли они «мужами» или «ангелами», сияющие и в белых одеяниях, эти персонажи устрашают стражу, но прекрасны и заботливы — говорят: «Не бойтесь!» — по отношению к женщинам, которые первыми принимают добрую весть. Также и в этом случае ангелы предстают то в человеческом облике, то в духовном и передают толкование спасительных событий.
Через ангела в видении сообщено Иоанну все то, что он описывает в «Откровении» (ср. Откр 1, 1). Книга полнится ангелами и подобными им небесными существами: это вестники и стражи, глашатаи и небесные придворные, хвалебные хоры и трубачи, а также жнецы с острыми серпами — для суда. Михаил и его ангелы сражаются с драконом и его ангелами (ср. Откр 12, 7–12). Здесь появляются падшие ангелы, то есть злые; в последней космической битве они побеждены добрыми ангелами Божиими. Наверняка значимость ангелов возрастет в конце времен, но и в видении Иоанна они остаются одновременно многоликими и загадочными, кроткими и могущественными, земными и небесными.
Библейское свидетельство об ангелах — которые часто появляются в решающие моменты истории спасения — содержит все основные темы их последующего бытования в культуре и духовности христианства: прежде всего они таинственны, даже парадоксальны, недоступны понятийному мышлению — поэтому к ним не проявляет интереса философская мысль? — «носители света и огня, сладости и ужаса […], двойные иконы Бога и человека […], иконы посредничества между Всецело Иным и нами»[3]. Они оповещают и дают указания; заботятся и утешают; направляют и распоряжаются; наказывают и сражаются; лучатся и сияют; парят и летают; играют на трубе и поют хвалы. Некоторые пали во зло, но в конце концов одержат верх добрые ангелы.
Ангелы в истории
Уже в первых иудейских и гностических умопостроениях представлены ангельские иерархии, зачастую с неоплатоническими прожилками. Дионисий Ареопагит (ок. 500 г.) располагает типы ангелов на трех уровнях, каждый состоит из трех хоров. Св. Фома Аквинский принимает это учение и придает ему форму, которая будет господствовать долгое время. Вот девять хоров, начиная с высших: серафимы, херувимы и престолы; спускаемся ниже: господства, власти и силы; наконец, начала, архангелы и ангелы[4]. Это учение исходит из библейских свидетельств и последующих рассуждений. Термин «иерархия» (= «священный порядок») вошел в оборот именно в связи с этой темой.
В Средние века земные иерархии Церкви и мира служат образом небесной иерархии ангелов и в ней черпают легитимацию: дворяне при суверене — как ангелы-придворные у Бога, административный корпус, одновременно занятый Его прославлением. Грандиозные фрески в средневековых церквях и миниатюры в манускриптах изображают этот ангельский мир в его сложном разнообразии[5].
Начиная с XV века развивается взятая из античности вера в «ангела-хранителя»: у каждого человека, в особенности у каждого ребенка есть ангел-хранитель, он сопровождает и защищает, всегда оставаясь невидимым. Эти ангелы — «наши помощники и гаранты того, что наша надежда и тоска по небу не пустая выдумка, но небо открыто для нас»[6]. Ангелам-хранителям посвящена — берет начало в XIX веке — богатая иконография, в том числе в нерелигиозной форме. Можно спорить о том, есть ли у каждого человека не только добрый, но и злой ангел, склоняющий ко греху; этим вопросом заинтересовалось протестантское богословие[7].
«Ангел — это свет, который сияет и никогда не опаляет. Но однажды это пламя загорелось, пожирая себя. И в падшем ангеле огонь начал жечь без света: черный огонь, ледяной. В этом огне слово Божие превратилось в камень и умерло. […] Это черный огонь свободы, восставшей против Бога»[8]. Ангелы — духовные создания Божии, значит, они свободны. Их свобода — величайший дар и в то же время предпосылка для обращения ко злу. Этим ли объясняется вхождение зла в мир? Падшие ангелы побуждают людей — тоже свободных — бунтовать против Бога. Оправдывает ли это злого человека? Вовсе нет, поскольку, будучи свободной личностью, он несет ответственность за свои действия. Вместе с падшими ангелами человек будет судим за свои злые дела, а судьями будут добрые ангелы.
В XVI веке св. Игнатий Лойола, возвращаясь к древним традициям, дал учению об ангелах психологическое применение: в «движениях» души — мыслях и чувствах, внутренних образах и наклонностях — действуют «духи», многочисленные, зачастую противоречивые и неясные. Нужно распознавать, какие движения исходят от доброго духа, или ангела, а какие от злого духа, или беса, диавола. Будем следовать побуждениям доброго духа и «не позволим себя определять» движениям духа злого. Ангел тьмы может маскироваться под «ангела света» (Люцифер) и под видом добра склонять ко злу наивную душу. Этот вклад в учение об ангелах обосновался в этике как «распознавание духов», а также в духовном сопровождении отдельных людей и групп; Папа Франциск плодотворно применял его к синодальным процессам[9].
В эпохи Возрождения и Барокко ангелы превратились в амурчиков: пухлые детишки порхают по картинам или в виде статуй в церквях выглядывают из каждого угла, проказливые, но симпатичные, солируют или концертируют. Что это — пошлость и деградация: «Пышная голая плоть, ручные поросята»[10]? Конечно, амурчики олицетворяют чувственную религию, пышную, юмористическую, возможно — очень католическую. Но в ребенке являет себя Божественное, и амуры всегда намекают на Младенца Иисуса. Они — спутники Премудрости, играют перед Богом и радуют Его (ср. Притч 8, 27–31)[11]. Амуры чужды сегодняшней духовности, но символизируют центральные и актуальные темы христианства. Интересно отметить, что они покоряют даже светскую публику, особенно знаменитые ангелочки у ног Рафаэлевой «Сикстинской Мадонны».
В эпоху Просвещения разум изгнал ангелов: они уже не вписываются в функциональный и организованный мир, только дурманят незрелых, иррациональных и авторитарных людей. Больше того, из богословия они почти исчезают, и научная экзегеза борется с историями об ангелах в Библии. Однако в религиях всегда остается антирациональный, мифический уголок, даже антипросвещенческий, где ангелы проявляют свою добрую или злую природу. Итак, должны ли ангелы до сих пор оставаться в старых храмах, вызывающих восхищение только в качестве музеев? Или следует ограничить их антимодернистскими течениями в Церкви, загнать в пыльный угол, терпящий насмешки за реакционность и сугубую эмоциональность? Проходит ли граница между официальным церковным миром и народным благочестием? Или так: с одной стороны, мир — плод рационального рассуждения, эффективно организованный, способный — по крайней мере, на это надеются — приспособиться к современности, а потому в нем нет ангелов. С другой стороны, благочестивый мир, внимательный к чувствам, густо населенный ангелами и, несомненно, очень «интересный» с историко-художественной точки зрения и благословенный Богом.
Об ангелах и людях
Говоря об ангелах, Катехизис Католической Церкви (ККЦ) цитирует св. Августина: «“Ангел” означает служение, а не природу. Ты спрашиваешь, как называется эта природа? — Дух. Ты спрашиваешь о служении? — Ангел. По тому, что он есть, он дух, по тому, что делает, — ангел»[12]. Далее в Катехизисе сказано, что ангелы, как чисто духовные создания, — служители и посланцы Бога. Они всецело связаны со Христом: присутствуют, когда Бог творит мир во Христе, присутствуют в жизни воплощенного Бога и служат Христу при Его возвращении и Суде[13].
Джорджо Агамбен называет ангелов «небесными чиновниками»[14]. У них две обязанности. С одной стороны, в своей управляющей функции, обозначаемые такими терминами из «властного» словаря, как «престолы», «власти», «силы» и т. д., они составляют чиновный корпус и небесную бюрократию, управляя «царством» Бога и доводя Его исторические указы до сведения жителей земли (служат и управляют: по-латыни virtus administrandi). С другой стороны, они предстоят перед Богом, как предусмотрено придворным церемониалом (видят Бога и хвалят Его: по-латыни virtus assistendi Deo). Агамбен ссылается на Данте, различавшего два блаженства в природе ангелов: созерцательное, с каким они видят лик Бога и славят Его, и правящее, которое в человеческом мире соответствует «активной, то есть гражданской жизни»[15]. Как бы зависнув посреди, они управляют теми, кто внизу, и возносят хвалы вверх, связывают землю и небо, человеческое и божественное, таинственным образом, никогда вполне не постигаемым. Но сегодня не заняла ли их место Церковь, с теми же функциями и качествами? Впрочем, зачастую она предстает в более земном обличии.
Ангельскую иерархию толковали по-разному в ходе истории. Послушаем, например, Бернарда Клервоского. По его мнению, Бог являет Себя в ангельских сонмах, уделяя внимание человеку, а выражается оно во многих формах: «В серафимах Бог любит как милосердие, в херувимах знает как истина, в престолах правит как справедливость, в господствах царствует как величество, в началах управляет как закон, во властях охраняет как спасение, в силах действует как сила, в архангелах являет Себя как свет, в ангелах утешает как доброта»[16]. Ангелы показывают дела Божии в их сложности, в том числе и те Его решения, что часто выглядят парадоксальными и непостижимыми, но всегда в них благоволение и доброта — это и есть благословение.
Ангелы поют хором, поэтому в древнем и раннехристианском хоровом пении слово и музыка сливались, проявляясь в движении, танце: «Произнесенный слог, музыкальный звук и шаг в танце были проявлениями одной и той же силы»[17]. Таким образом, ангелы являют себя «в естественном единстве чувств». В хороводе «терялась способность артикулировать слова, потому что уже нечего было выражать: сами танцоры были выражением, которое ходит и кружится»[18].
Ангелы поют alter ad alterum, лицом друг ко другу, чередующимися хорами, в диалоге. Уже псалмы на иврите располагались параллельно, и до сих пор в монастырях их поют чередующимися хорами. Alter ad alterum — это и отсылка к ангелу-хранителю, который как бы служит человеку двойником и сопровождает его в дружеском диалоге.
Разумеется, ангелы поют una voce, в унисон: хор — это «роящееся» существо, в нем поющий слушает самого себя и в то же время звук, издаваемый хором; это его преображает и выводит далеко за свои пределы; поющий, так сказать, поглощен этим звуком.
Ангелы поют sine fine, без конца: поскольку музыка разворачивается во времени, существует только сейчас, это выражение парадоксально. «Таким образом, ангельское пение sine fine — нечто иное, чем музыка, как ее слышим мы. Это своего рода беспредельное художественное проявление […], бескорыстное, спонтанное, без формы, как пространство, которое расширяется до бесконечности со скоростью звука»[19]. Поющие ангелы устремлены вверх, к небу; в готическом искусстве парят над абсидами церквей со сводами, восходящими все выше. Поющие ангелы — это уже небо: «я», «ты» и «мы» сливаются в единстве без времени и пространства[20].
Ангелы развеивают косные образы и понятия о Боге: «Ангелы […] не вписываются в теорию множеств, проходят через стены косности, как через тюремные стены […]. Перед лицом Единого Бога они свидетельствуют о политеизме; перед лицом язычества провозглашают монотеизм; повсюду сеют пантеизм, когда поют в полях»[21]. Бог един, но многообразен; доступен восприятию, но ускользает; не находится ни в каком месте, но везде; пребывает во всем, но не в том, что от этого мира; ангелы отметают всякую скованную или рационалистическую мысль, которая хочет исключать или определять концептуально.
Кристиан Ленерт находит в ангелах sola fide: «Одной верой. Можно было бы сказать: то, что Августин и Лютер понимали под верой, то есть усвоение обещания, преображения и спасения, которые исполнились уже давно, но для меня станут реальными только если я их приму лично, то есть внутреннее осуществление Бога через доверие к Нему, форма движения, которая есть в то же время принятие, дающее мир, когда человек уже не замыкается на себе: все это — иной способ выразить реальность ангелов»[22]. Если можно сказать, что сами ангелы — это вера, то верить в ангелов — не худшая форма веры, потому что ангелы исходят от Бога и ведут к Богу. Католики, всегда ценившие чувства и формы, а потому и ангелов, охотно согласятся с этой идеей евангельского происхождения.
Ангелы не существуют как реальность, воспринимаемая органами чувств, доступная естественным наукам, в рамках онтологии, работающей с понятиями, в рамках современного миропонимания. Но ангелы существуют, понятные только поэтически, как духовные фантастические реалии, как тени иной, возвышенной реальности, как мысленные образы в амбивалентности между добрыми и злыми энергиями, как «короткие замыкания в молнии между непримиримыми полюсами, как чудеса, нечто непредсказуемое, как энергии преображения»[23].
Вернемся к Германии, упомянутой выше: считается, что 40 % немцев верят в ангелов (тренд восходящий) и 55 % верят в Бога (тренд нисходящий); на востоке Германии уже больше тех, кто верит в ангелов, чем тех, кто верит в Бога[24]. Похоже, ангелы ушли из Церкви, перехваченные индустрией эзотерики и китча. Но можно ли сказать, что Церковь отказалась от ангелов? Они полезны, по крайней мере, Богу: служат Ему в качестве чиновников, послов и хористов. Но разве не полезны они христианству — как доступ к чувственно-сверхчувственной религиозной реальности, которая находится за пределами рационального и помогает встретить Бога-личность?
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Многое можно было бы сказать об ангелах в иудаизме, исламе и проч., но здесь мы ограничимся христианством.
[2] Частый в Ветхом Завете термин «херувим» означает прежде всего Божьего служителя или ассистента; впоследствии херувима стали рассматривать и как ангела, а в Средние века включили в ангельские иерархии. На эту тему, ср. Y. Cattin — Ph. Faure, Les anges et leur image au Moyen Age, Abbaye de la Pierre-qui-vire, Zodiaque, 1999.
[3] Там же, 20.
[4] Ср. Ch. Lehnert, Ins Innere hinaus. Von Engeln und Mächten, Berlin, Suhrkamp, 2020, 114.
[5] Ср. иллюстрированные издания Y. Cattin — Ph. Faure, Les anges et leur image au Moyen Age, цит., и M.-Ch. Boerner, Angelus et Diabolus. Engel, Teufel und Dämonen in der christlichen Kunst, Potsdam, Ullmann, 2016.
[6] Katholischer Erwachsenenkatechismus, vol. 1, 1985, 111. Ср. R. Guardini, L’Angelo. Cinque meditazioni, Brescia, Morcelliana, 2024.
[7] Ср. E. Weinberger, Engel und Heilige, Berlin, Berenberg, 2023, 32 сл.
[8] Y. Cattin — Ph. Faure, Les anges et leur image au Moyen Age, цит., 25.
[9] Есть современные психологические подходы к ангелам: ср., например, R. Perrone, Le syndrome de l’ange. Considérations à propos de l’agressivité, Paris, ESF, 2013. Автор говорит о «синдроме ангела»: в этом случае человек, подвергшись агрессии, занимает позицию, подобную ангельской, то есть неуязвимую и самодостаточную, в то же время она позволяет обесценивать и презирать агрессора.
[10] Ch. Lehnert, Ins Innere hinaus…, цит., 63.
[11] Ср. S. Kiechle, Spielend leben, Würzburg, Echter, 2008, 31 сл.
[12] Катехизис Католической Церкви, № 329.
[13] Ср. там же, № 329–333.
[14] Ср. G. Agamben, Die Beamten des Himmels. Über Engel, Frankfurt — Leipzig, Verlag der Weltreligionen, 2007.
[15] Там же, 38.
[16] Цитируем по изданию: E. Weinberger, Engel und Heilige, цит., 52.
[17] Ch. Lehnert, Ins Innere hinaus…, цит., 90. Мысли, изложенные далее, вдохновлены этой книгой.
[18] Там же, 91.
[19] Там же, 95.
[20] О концертирующих ангелах: W. W. Müller, Musik der Engel. Eine Kultur–geschichte, Basel, Schwabe, 2024.
[21] Ch. Lehnert, Ins Innere hinaus…, цит., 230.
[22] Там же, 36.
[23] Там же, 14.
[24] Однако результаты опросов сильно разнятся. Когда речь идет о такой чувствительной теме, они в значительной мере зависят от методов исследования и от намерений исследователя.
Изображение: Питер Брейгель Старший, «Падение мятежных ангелов», 1562 год