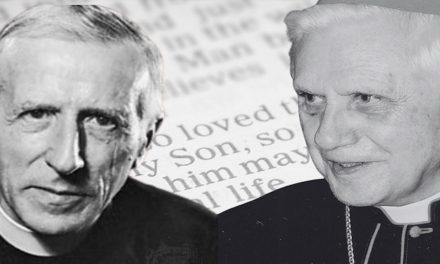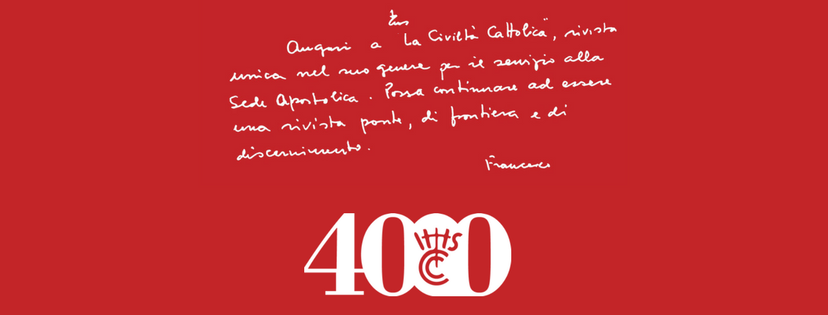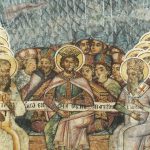Джованни Куччи SJ
В этом году отмечается 50-летие со дня ухода Ханны Арендт (1906–1975), выдающего представителя философии (хотя она сама бы никогда себя так не назвала) немецкого и англоязычного кругов, известной своей гражданской и политической волей и глубоким анализом ужасных событий XX века, которые она лично пережила и которые отражены в ее памятных сочинениях. По многим этим аспектам ее наследие можно, безусловно, считать пионерским.
Жизнь
Ханна Арендт родилась в Ганновере 14 октября 1906 года. Ее семья из буржуазных кругов давно отдалилась от еврейских традиций. Ханна в семь лет потеряла отца, воспитывалась матерью, та увлекалась социал-демократическими идеями и вдохновлялась Розой Люксембург. В годы учебы в университете у Ханны была возможность слушать лекции некоторых из важнейших представителей философской и богословской мысли того времени: Романо Гуардини, Рудольф Бультманн, Эдмунд Гуссерль, Карл Ясперс и Мартин Хайдеггер, с которым ее связывали сентиментальные отношения. Защитила дипломную работу по теме любви у святого Августина под научным руководством Карла Ясперса. После прихода Гитлера к власти была вынуждена бежать в Париж, затем в Соединенные Штаты, преподавала политическую философию в Принстоне, Беркли и Чикаго, а также активно занималась темой иудаизма, хотя ее позиции — очень критичные по отношению к националистической политике, враждебной к присутствию арабов, живущих в Палестине, — не находят согласия, вынуждая ее к изоляции. Ситуация позже обострится после публикации книги о процессе над Адольфом Эйхманом. Ханна скоропостижно умирает в Нью-Йорке от сердечного приступа 4 декабря 1975 года, работая над Гиффордскими лекциями (Gifford Lectures), серией запланированных лекций в одном из старейших шотландских университетов, куда ежегодно приглашают выдающегося представителя культурного мира. Позже непрочитанные лекции были собраны в книгу Жизнь ума.
Ее интеллектуальный путь, необычайно богатый и артикулированный, можно понять, пересматривая основные труды.
Тоталитаризм
Опубликованная в 1951 году работа Истоки тоталитаризма принесла Арендт славу и остается одной из важнейших книг XX века в историко-политическом плане. Основная гипотеза, что тоталитаризм — феномен, радикально отличный от политических форм истории прошлого и настоящего, таких как абсолютизм и диктатура. Характерная особенность нацизма и сталинизма (фашизм не рассматривается) — прямое следствие «атомистического видения человеческих существ, лишенных публичного пространства дискуссии об общем благе и рассматриваемых лишь как звенья системы, не имеющие какой-либо самостоятельной ценности и поэтому легко взаимозаменяемых»[1].
Труд разделен на три части. В первую очередь рассмотрен феномен антисемитизма, считающийся неотъемлемой предпосылкой тоталитаризма (особый раздел посвящен делу Дрейфуса). Следует разбор империализма и утверждения буржуазии, монополизировавших европейскую историю второй половины XIX века вплоть до Первой мировой войны. Кризис империализма наряду с антисемитизмом, — считающим «международный еврейский заговор» причиной беспорядков, — ведут к тоталитаризму, осуществлению власти, идеологически оправдывающим необходимость террора в самых разнообразных формах (директивы верховного руководителя, единственной партии, пропаганды, тайной полиции, отрицание частной жизни, концентрационные лагеря и лагеря смерти). Итог — «ад», психологическое и физическое уничтожение любого инакомыслящего, совершаемое в полном безразличии[2].
Заключительная часть книги подчеркивает влияние идеологии, поскольку тоталитарное государство тесно связано с беспрецедентным пониманием истории, жизни и человека, в которой ничего больше не имеет ценности, за исключением тезисов доктрины, способной оправдать любое возможное действие: «Общество умирающих, в котором наказание накладывается без какой-либо связи с преступлением, эксплуатация без выгоды и непродуктивная работа — пространство, где ежедневно создается бессмыслица. Кроме того, в условиях тоталитарной идеологии ничто не может оставаться осмысленным и логичным: если в интернатах содержатся паразиты, логично, что их убивают газом; если существуют дегенераты, нельзя им позволять заражать население; на тех, у кого «рабская душа» (Гиммлер), не следует тратить свое время, стараясь перевоспитать их»[3].
Если нацизм и сталинизм, как кажется, принадлежат прошлому, то с идеологией все обстоит совершенно иначе: она не побеждена в культурном плане. Поэтому тоталитаризм останется постоянной угрозой, «останется в жилах на будущее» и вновь проявляется при каждом демократическом кризисе, выглядя как сильное решение, способное принести стабильность и безопасность, подавляя протест, противостояние, и, прежде всего, свободу, остающуюся условием человеческой жизни и гарантией любого нового начала. Свобода, которую Арендт в заключении книги обобщает выражением святого Августина: Initium ut esset, creatus est homo («Дабы было начало, был сотворен человек»).
«Vita activa»
Если корни тоталитаризма уходят в отмену публичного и политического измерения, именно в этом следует действовать, чтобы этот спектр не возвращался вновь и вновь. И политике как наивысшей деятельности человека посвящено сочинение Vita activa, или О деятельной жизни, опубликованное в 1958 году. Основная гипотеза книги заключается в том, что исчезновение греческого полиса (города-государства) сопровождалось параллельным исчезновением политической деятельности, дискурса и публичных дебатов, чье место заняли виды деятельности, направленные на простое выживание, такие как создание и труд. Подзаголовок — Человеческая обусловленность, так называется англоязычное издание — знаковый и символизирует отдаление от классической традиции: «Арендт говорит об “обусловленности”, а не “природе” человека. Разница немаловажная: единственное утверждение, которое мы можем сделать о так называемой “природе” людей, замечает Арендт, — это то, что они представляют собой существа, обусловленные положением»[4]. Тем не менее речь идет об обусловленности, не осуждающей свободу; она никогда, в конечном счете, не является детерминирующей. Это можно заметить по описанию трех фундаментальных модальностей человеческого положения: труд (работа), создание (изготовление) и действие (поступки).
В отличие от труда с целью обеспечить выживание тому, кто лишен средств для пропитания (для этого в древности существовал рабский труд), создание квалифицирует человека как faber, характеристика, главенствующая в Новое время, знаменующая его отличие от предшествовавших эпох: «Деятельность труда как таковая не обязательно требует наличия других людей, хотя существо, трудящееся в полном одиночестве, вряд ли еще оставалось бы человеком; оно было бы работающим животным, animal laborans в самом буквальном и жутком смысле слова. Существо, изготовляющее вещи и выстраивающее лишь им одним обитаемый мир, еще могло бы называться создателем, однако homo faber — вряд ли»[5].
Третья модальность — деятельность — присуща политической сфере. Она — высшая ступень, поскольку превосходит вещи и задействует отношения, речь, многообразие, «условие — не только conditio sine qua non, но conditio per quam — любой политической жизни»[6]. Политика сообщает человеку вторую жизнь — общественную, — которая добавляется к частному измерению и делает дискурс своего рода деятельностью. Именно это отличает политическую деятельность от насильственного поступка, низводящего человеческое положение до сервильного состояния, лишая способности к убеждению и прогрессу. Частная жизнь остается предпосылкой политики, поскольку заботится об основных потребностях существования, это дополитическая сфера. Но лишь в политической деятельности человек осознает себя свободным, полностью живым, освобожденным от действий, направленных на удовлетворение естественных потребностей.
Греческий полис, тем не менее, познал внутри себя постепенный упадок, в первую очередь, на спекулятивном уровне, с Платоном и Аристотелем, противопоставлявших активную жизнь созерцательной, отдавая предпочтение последней. Другая причина кризиса политической деятельности вплоть до ее исчезновения проистекает из современной научной революции, видящей доминирование homo faber и вытекающий из этого материализм, присущий animal laborans.
Vita activa завершается латинской цитатой, на сей раз из Катона: Numquam se plus agere quam nihil cum ageret, numquam minus solus esse quam solus esset («Нет большего действия, чем бездействие; нет меньше одиночества наедине с собой»). Приведя ее философ желает переоценить мыслительную способность, присущую каждому человеку, которая никогда не может полностью угаснуть.
Анализ Vita activa, с одной стороны, показывает корни кризиса политической мысли, но, с другой стороны, ее картина оказывается во многом неполна в историческом плане. По Аристотелю, именно политика — вершина человеческих способностей (он даже определяет человека как «политическое животное по природе», Политика 1253а): одно из наиболее подходящих выражений созерцательной жизни, отнюдь не противопоставляющее себя ей[7].
Банальность зла
Арендт известна широкой публике прежде всего за точное описание процесса над Эйхманом (считавшегося главным идеологом и исполнителем «окончательного решения», приведшего к уничтожению шести миллионов евреев). Процесс проходил в Иерусалиме с 11 апреля по 15 декабря 1961 года. В качестве посланника еженедельника Нью-Йоркер она написала серию статей, объединенных в 1963 году в книгу Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. В итальянской традиции с 1964 года слова в заглавии переставлены — La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, — тем самым больше передается основной тезис книги (так же озаглавлено русское издание: «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме». — Прим. пер.).
Для философа-еврейки Эйхман на самом деле не чудовище, не ментально нездоровый человек и тем более не злой гений: он обычный мужчина, недалекий, наглядный пример того, что случается, когда к мыслительной атрофии присоединяется массовая идеология (две темы неслучайно разобраны в ее прошлых работах), приводя к структуре зла, присущей тоталитаризму, состоящей из нормальных людей, совершающих со всей обыденностью ужасные деяния: «Проблема с Эйхманом заключалась именно в том, что таких, как он, было много, и многие не были ни извращенцами, ни садистами — они были и есть ужасно и ужасающе нормальными. С точки зрения наших юридических институтов и наших норм юридической морали эта нормальность была более страшной, чем все зверства, вместе взятые, поскольку она подразумевала — как неустанно повторяли в Нюрнберге подсудимые и их адвокаты, — что этот новый тип преступника, являющегося в действительности “врагом человечества”, совершает свои преступления при таких обстоятельствах, что он практически не может знать или чувствовать, что поступает неправильно»[8].
Отупение совести наряду с подменой понятий, за которой идеология скрывает истинную суть деяния (уничтожение становится «окончательным решением», смертельные инъекции — «прививками», газовые камеры — «дезинфекцией», печи крематориев — «путем на Небеса»), Арендт ясно признавала в своем анализе тоталитаризма: «Внутри организационной структуры, чтобы она оставалась компактной, фанатичные члены недосягаемы ни для переживания, ни для умозаключения; идентификация с движением и абсолютный конформизм по-видимому разрушают саму способность к восприятию даже такой крайности, как пытка или страх смерти»[9].
В тоталитарном государстве люди, если хотят выжить, должны подавлять собственную совесть: единственная признанная ценность — послушание приказам вождя, устанавливающего, что следует делать, просто потому что «надо». Это опасное применение кантианского категорического императива, которым открыто вдохновлялся Эйхман: «Действуй так, чтобы фюрер, узнав о твоих поступках, одобрил»[10]. В таком окружении любой может совершить ужасные деяния, не осознавая их тяжести, и, следовательно, стать способным в будущем в совершенстве интегрироваться в общество, что и произошло с большей частью нацистской иерархии после войны. Филип Дзимбардо, автор тщательного исследования по этой теме, обобщает проблему в следующих словах: «Если поместить добрых людей в плохое место, им там лучше или место их развращает? Насилия, эндемичного в большинстве существующих тюрем, не будет в тюрьме, полной образцовых буржуа?»[11]
Этот структурный подход к деструктивным наклонностям (опровергающий классическое объяснение феномена «паршивой овцы») Арендт приняла со всей очевидностью, показав, помимо «банальности Эйхмана», пассивность и сплоченность не только всей нации, но и, собственно, еврейской общины. Поэтому в еврейском мире, у интеллектуалов Европы и США книга вызвала негодование, и сама Арендт стала объектом серьезных угроз.
Но посланница Нью-Йоркера не была единственной, кто уловил вызывающие тревогу аспекты происходящего. Симон Визенталь, руководивший операцией по аресту Эйхмана, не скрывал своего удивления и разочарования, когда, наконец, оказался с ним лицом к лицу. Перед ним стоял невысокий, лысый, робкий человечек, страдающий тиком, без явных признаков злоумышленника и даже малейшей агрессивности: «В нем не было ничего дьявольского; он выглядел, скорее, как бухгалтер, опасающийся попросить о повышении зарплаты». Однако Визенталя поразила его манера вести разговор: его холодный, металлический голос не выдавал каких-либо эмоций или чувств[12].
Возможно ли противостоять тоталитаризму?
Влияние событий Холокоста и процесс над Эйхманом убедили Арендт в важности общественного диалога и демократических структур как неотъемлемых гарантов достоинства человека. Именно они стали темой ее последней книги Жизнь ума. Книга была задумана в трех частях: Мышление, Воление (Воля), Суждение (последняя не окончена).
Ум непостижим чувствами: это пространство невидимого, мышления, но его можно уловить во внешних проявлениях, таких как речь, слово и метафора. Так, последняя, в силу соприсутствия слова и образа, позволяет мышлению стать видимым и вступить в отношения с чувственным миром, «она осуществляет перенос — metapherein — из одного экзистенциального состояния в другое»[13]. Политическая деятельность — самый значимый плод ума, она в состоянии защитить общество от деструктивных наклонностей; «мысль как таковая вытекает из событий жизненного опыта»[14].
Тема политической активности, хотя неоднократно звучит в ее сочинениях (как в заключительной части Vita activa), совершенно не закончена в труде Арендт: ей пришлось вернуться на юридический факультет, где голос совести превращается в проектную реализацию. Но речь идет именно о части Жизнь ума, оставшейся незавершенной.
Молчание о столь важной проблеме задает некоторые вопросы о целостном значении ее предположения, безусловно, достойного восхищения. Арендт подчеркивает необходимость в «этических оазисах», помогающих в пустыне сегодняшних обществ выжить, ценя мысль прошлого, но говорит только о переходе, в нескольких строках другого неоконченного сочинения. Сам образ оазиса не уточняется; он кажется, скорее, поэтической метафорой, намеченной исчезающими понятиями: «Бежать из пустыни, от политики к… неважно куда». Кроме того, образ наступающей пустыни, в совершенно пессимистичном духе, присущем Vita activa, передает нигилистское послание: таким образом Заратустра Ницше демонстрировал последствия смерти Бога[15].
Учитывая глубину анализа, проведенного Арендт в историческом, социологическом и культурном руслах, нельзя утаить некоторого разочарования в такой своего рода спекулятивной капитуляции всякий раз, когда она погружается в тематику, которая, более чем что-либо еще должна оправдать сложность мышления; совершенно отсутствует четко выраженный политический выбор, способный дать ответ на поднятые проблемы и защитить человека от деструктивных наклонностей, которые она столь долго изучала в своих главных трудах. Отмечалось, что «Ханна Арендт не предлагает ни модели действия, ни кодексы, которых нужно придерживаться […]. Она, скорее, указывает нам на открытость к тонкой, как лезвие ножа, свободе, временную брешь. Именно в подобной открытости действует суждение, плюралистично освещая то, что иначе было бы предано забвению»[16]. Тема сопротивления, восстания остается фактически единственным предложением, возможным для противостояния опустошающим отклонениям, возбуждаемым внутри и вне нас.
Все это обнажает потребность в более, собственно, философском подходе, особенно в плане этики и метафизики, способном не только оправдать приемлемость протеста, но, в первую очередь, сообщить смысл достоинства человеческого существа. Подход, следов которых нет в философских сочинениях, из-за чего затруднено толкование фундаментальных тем, например, прав человека. Арендт утверждает «право на права»: они «должны оставаться действительными и реальными даже если на земле живет только один человек; они независимы от человеческого многообразия и, следовательно, должны сохранять свою ценность, даже если индивид изгнан из общества»[17].
Но на какой основе подобная декларация приемлема, коль скоро несколькими строками выше исключалась ее связь с Богом и человеческой природой? Позиция Арендт очень ясна в отношении того, кто попирает права, как в нацистской Германии: «Виновность или невиновность перед законом имеют субъективный характер, и даже если бы восемьдесят миллионов немцев сделали то, что сделали вы, это не извиняло бы вас»[18]. Но на какой «закон» она ссылается? И по какому критерию считать «нечестивым» один закон, предпочитая другой?
В этих утверждениях кроется огромная неразрешимая проблема современности: связь позитивного закона со справедливостью. Без ссылки на естественный закон, замечал святой Фома, государственный закон, пусть и ратифицированный властями, превращается в «распад закона» (см. Summa Theologiae, I–II, q. 95, a. 2). Именно это и происходит с расовыми законами.
Йозеф Пипер в процессе написания комментария к томистскому трактату наблюдал дрейф нацистской диктатуры, поставившей в основание закона волевое решение: волю, которая, в отличие от святого Фомы, не руководствуется разумом, а навязывается как иррациональная жажда доминирования, как самоцель.
Есть риск, что увлечение Арендт философом из Кенигсберга по решающему вопросу суждения подставит плечо подобным апориям, поэтому так значим недавний диспут о расистских аспектах в наследии Канта[19]. Апелляция Эйхмана к Канту, настойчиво подчеркнутая Арендт, хотя и спорна, но вызывает беспокойство: апелляция показывает, как чисто формальный подход, а именно такова кантианская мысль, став критерием действия, может привести к неудержимым зверствам при полном соблюдении правил[20]. По этой причине Мишель Онфре в безусловно провокационной книге Le songe d’Eichmann ассоциирует кантианство с нацизмом. Французский философ отмечает, что Эйхман соблюдал формальные каноны кантианской морали: например, исключение чувств при принятии решений. Кант утверждал, что человека нужно рассматривать как цель и ни в коем случае как средство; однако это касается именно человеческих существ; нацисты таковыми евреев не считали; поэтому на них не распространяется второй постулат категорического императива.
Без духовного подхода трудно оправдать достоинство и равенство человеческих существ: таков урок, к сожалению, не усвоенный в свете кошмарных расовых идеологий XX века. Поэтому даже протест, возможно, рискует оставаться всего лишь flatus voci или давать выход насилию и иррациональным потокам, например, популизму, тем самым опасно приближая к обществу тоталитарную аргументацию.
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Cfr H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Milano, Edizioni di Comunità, 1967, 630.
[2] Cfr ivi, 609.
[3] Ivi, 626.
[4] G. Fornero — S. Tassinari, Le filosofie del Novecento, Milano, Mondadori, 2002, 1009.
[5] H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Milano, Bompiani, 2001, 97.
[6] Ivi, 7.
[7] Cfr G. Cucci, L’arte di vivere. Educare alla felicità, Milano, Àncora, 2019, 24–33.
[8] H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Milano, Feltrinelli, 2023, 282. (Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. — М. «Европа», 2008. — С. 411).
[9] Id., Le origini del totalitarismo, cit., 427.
[10] Id., La banalità del male…, cit., 159; cfr 143.
[11] Ph. Zimbardo, L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa?, Milano, Raffaello Cortina, 2008, 27. Cfr G. Cucci — A. Monda, L’arazzo rovesciato. L’enigma del male, Assisi (Pg), Cittadella, 2010.
[12] Cfr S. Wiesenthal, Gli assassini sono tra noi, Milano, Garzanti, 1967, 98. Показательно и интервью с комендантом лагеря в Треблинке, Францом Штангелем, признавшемся, что он выполнял служебные обязанности, «распределяя совесть по изолированным ячейкам» (G. Sereny, In quelle tenebre, Milano, Adelphi, 1975, 214).
[13] Арендт Х. Жизнь ума. — СПб: Издательство «Наука», 2013. — С. 117.
[14] Id., Tra passato e futuro, Milano, Garzanti, 1991, 36.
[15] Cfr Id., Che cos’è la politica?, Torino, Einaudi, 2006, 144–146; F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Milano, Adelphi, 1984, 371.
[16] A. Del Lago, Introduzione, in H. Arendt, La vita della mente, cit., 58 s. См. также Мигель Абенсур: («Мыслительница [Арендт] действительно стремилась выработать, построить новую политическую философию под знаком истины и подлинности? Сомнительно. Можно ли найти подлинную эссенцию чего-то “фундаментально ложного”? С другой стороны, как объяснить, что она — не испытывая трудностей с письменной речью, — так и не смогла завершить труд, который намеревалась посвятить политике, и рукописи по этой теме были опубликованы после ее смерти под названием Что такое политика?» ( M. Abensour, Hannah Arendt contro la filosofia politica?, Milano, Jaca Book, 2010, 160 s.).
[17] H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., 412.
[18] Id., La banalità del male, cit., 284. (Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. — М.: «Европа», 2008. — С. 414).
[19] Cfr Id., Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia politica di Kant, Genova, Il Nuovo Melangolo, 2005; G. Basile, Kant e il razzismo, in Civ. Catt. 2025 I 310–322.
[20] Симона Форти в связи с этим замечает: «Именно Кант первым переворачивает классический образ закона, поэтому заложение закона больше не является благом, закон как таковой должен возвышаться над благом. Проследив рассуждение вплоть до парадокса, можно утверждать, что у Эйхманна есть причины называться кантианцем. Эйхманн — тот, кто совершает зло, но как побочный эффект действия, цель которого — соответствие благу, можно сказать, следование закону, так как закон есть закон. Именно на таких предпосылках стало возможно укрепить легкомысленное совпадение кантианства и нацизма […]: кодекс норм, обычаев и обрядов, которые можно столь же легко подменить, как подменивают обычаи сожительства» (www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf-mail/182-13062014a3.pdf [ultimo accesso 20 maggio 2019]).