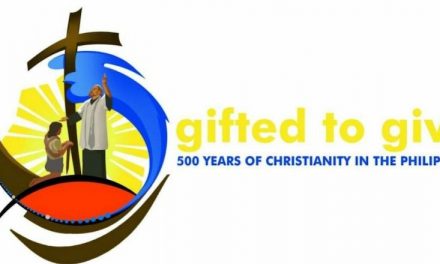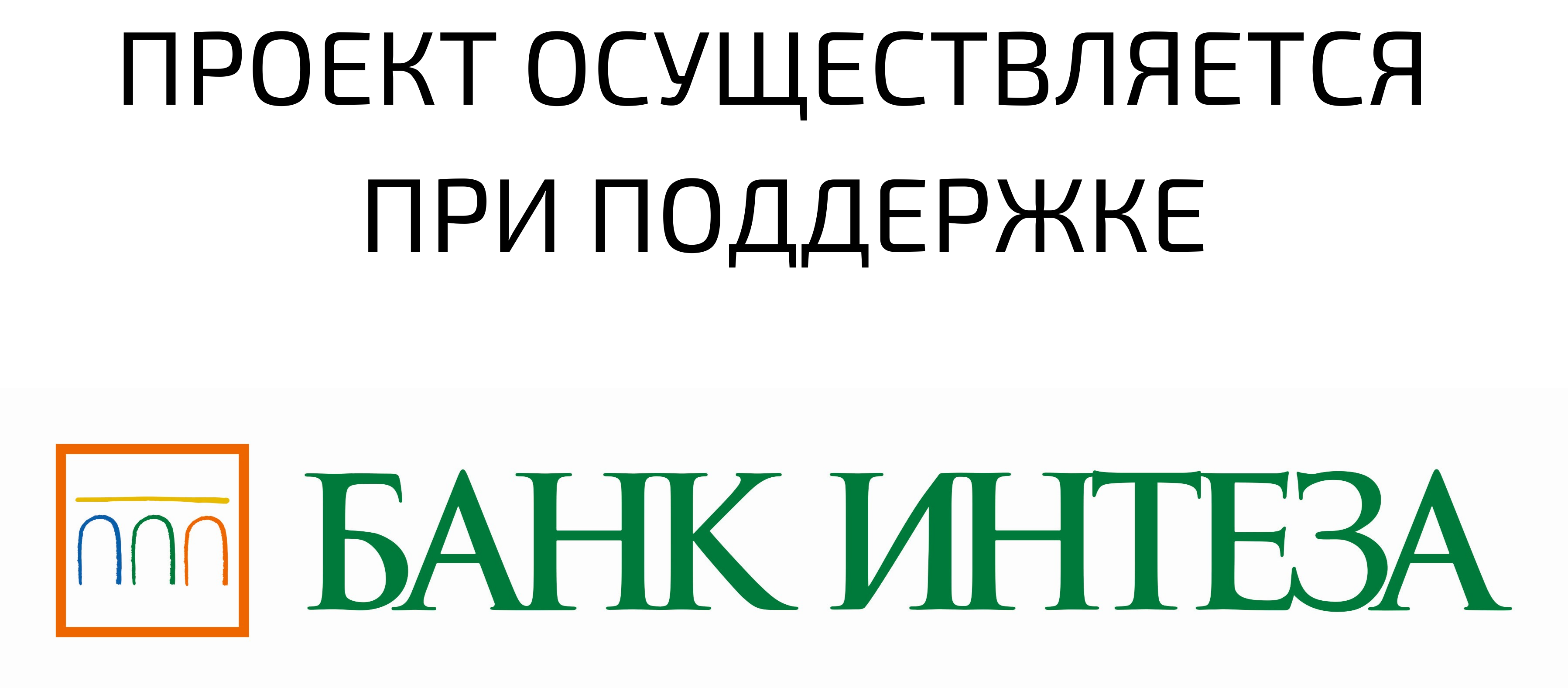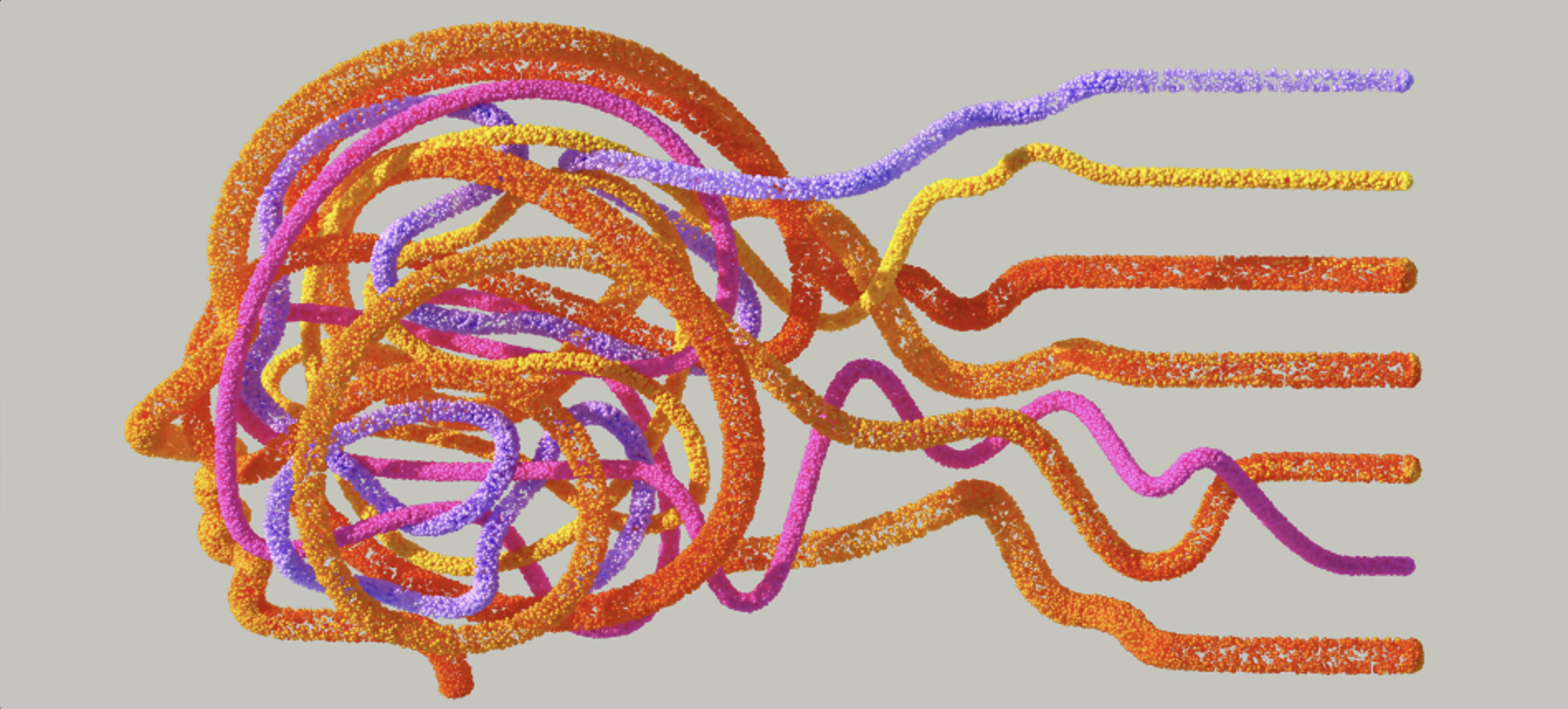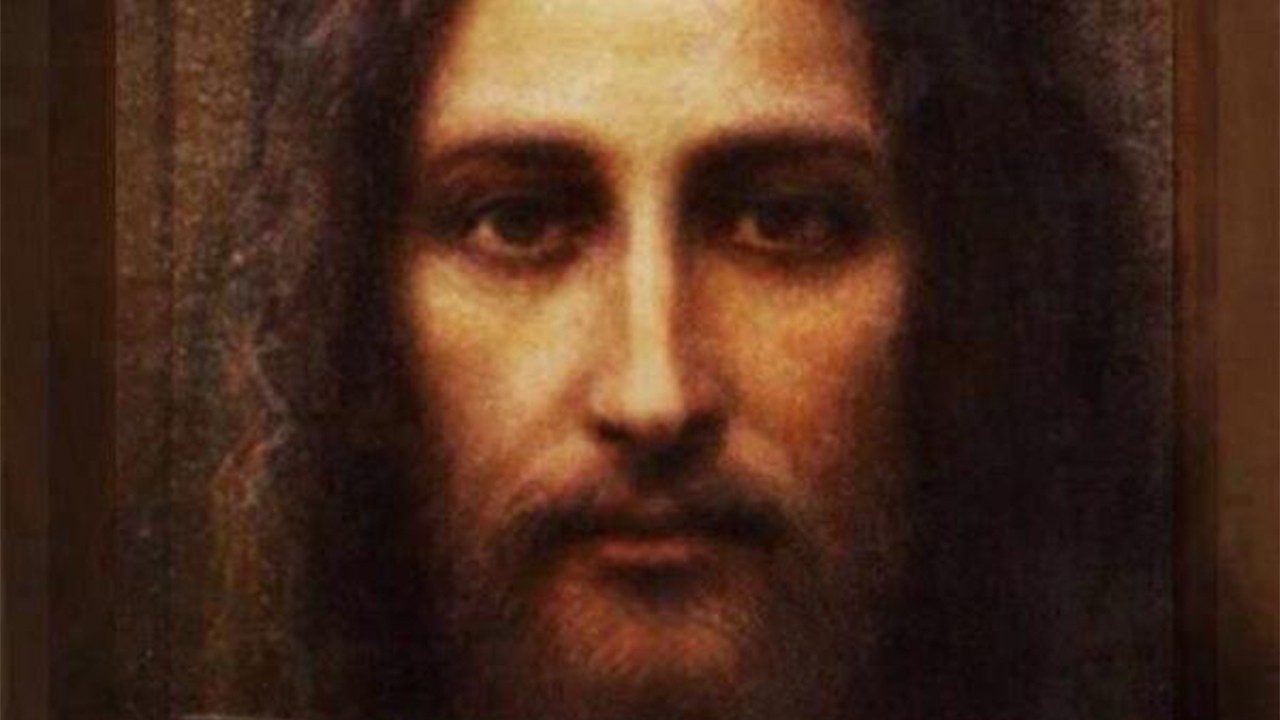Эудженио Ривас SJ
Согласно Чарльзу Тэйлору[1], одному из самых выдающихся католических мыслителей современности, лучшее описание реальности сегодняшней культуры обязательно включает в себя понятие аутентичности, подлинности: мы имеем дело с настоящей «культурой аутентичности». Под этим термином философ имеет в виду поиск личностной самореализации, которая, в свою очередь, подчинена субъективному принципу верности искренне испытываемым чувствам. За этим поиском прячется моральный идеал «искренности по отношению к самому себе». Этот идеал, утверждает Тэйлор, «не определяется тем, чего мы желаем или в чем нуждаемся, но определяет, чего нам следовало бы желать[2]».
Как следствие, можно утверждать, что, сколь вялым, неявным или замаскированным ни являлся бы этот поиск для индивида, живущего в условиях современной культуры (культуры релятивизма, индивидуализма, нарциссизма, самодостаточности и т.д.), аутентичность основывается на моральной силе. И эта моральная сила отнюдь не определяется ни аргументами, стремящимися лишить ее своего достоинства, ни теми, кто, напротив, слепо защищают ее, ни теми, кто ищет разумный компромисс.
Перед лицом такой панорамы аутентичности со всеми ее отклонениями Тэйлор предлагает работу по восстановлению (retrieval), посредством которой тот моральный идеал, на который опирается аутентичность, может содействовать обновлению социальной и политической жизни в реальности. Это означает, что аутентичность рождает потребности; в противном случае она просто контрпродуктивна.
Жизнь в вере погружена в эту культуру аутентичности без какого-либо иммунитета, который мог бы защитить ее перед этой культурой, но и не находится в изоляции. Это значит, что и жизнь не лишена риска стать вялотекущей или замаскированной, равнодушной к любым социальным обязательствам. Иными словами, она может повернуться спиной к созиданию истории, в которой призвана быть двигателем освобождения. То есть проживаемая и практикуемая вера рискует потерять свою социальную и политическую значимость и эффективность.
Богословие призвано выявить и подчеркнуть взаимосвязь между христианской верой и трансформацией человеческой истории, благодаря которой история становится местом, где реализуется богословие: «Социальная практика постепенно превращается в то пространство, в котором христианин реализует, наравне с другими, свою человеческую судьбу и свою веру в Господа, явившего Себя на протяжении всей истории человечества»[3].
Эта роль христиан в истории весьма значительна и означает присутствовать и принимать участие повсюду, где защищается жизнь и достоинство человека и где право заявлено как гарантия достойной жизни[4].
Активное участие в истории человечества является следствием чтения Слова Божьего, обращенного к нам сегодня, в свете веры и при помощи дисциплин, которые приподнимают для веры завесу прошлого и истолковывают настоящее[5]. Если сегодня мы слышим обращенное к нам Слово Божие, то оно непременно имеет целью сообщить нам что-то о той конкретной ситуации, которую мы в настоящий момент проживаем как индивидуумы и как общество. Это Слово передает нам освободительное послание, направленное против любой зависимости, которая искажает наши «образ и подобие» по отношению к Богу. Это Слово пытается изменить реальность, превратить смерть в жизнь, голод в достаток, болезнь в здоровье, заключение в свободу, темноту в свет, сомнение в веру, грусть в радость. Именно такой опыт передает удивительно красивая и выразительная молитва, приписываемая Франциску Ассизскому, в которой святой просит сделать его орудием всего, что Слово Божие желает исполнить.
Слово Божие очень практично, оно не возвращается к Богу, прежде чем не исполнит все, что Ему угодно (ср. Ис 55, 10-11). Жизнь в вере верою и плодородна: она прорастает и крепнет, только если проникнута верой и готова принять исторический вызов, чтобы участвовать в борьбе за более человечный мир. И именно это христианское участие в истории оказывается под угрозой из-за «культуры аутентичности».
Примем размышления Тэйлора как провокацию для богословия, провокацию в значении стимула, помощи или, если хотите, предлога, чтобы размышлять о вере исходя из ее содержания, чтобы определить острые моменты и указать на пути, основанные на богословских размышлениях, которые, сами питаясь верой, подпитывают духовную жизнь. Вопрос же заключается в том, возможно ли, исходя из духовного опыта аутентичности, вести плодотворные богословские размышления, которые помогли бы обновить повседневную жизнь исходя из потребностей веры, стремящейся воплотить в жизнь ценности Царства.
Если вместе с Тэйлором признать, что аутентичность основывается на моральных идеалах и мотивируется ими, становится возможным и необходимым развивать богословские размышления касательно «веры аутентичности», чтобы вернуть потребность практической реализации веры и противостоять некоему «спиритуализму», который, скрываясь за подобием ортодоксии, обнаруживает «отвращение к положению человека, […] к „филантропии” Создателя, проявленной им в принятии, через воплощение Сына, Своих созданий, с которыми посредством дара Святого Духа Он находится в связи и в общении»[6].
Аутентичность в современной культуре
Тэйлор не останавливается на аспекте поверхностности культуры аутентичности, или на том, что он называет «ее отклонениями», и предлагает считать ее культурой поиска, за которой вырисовывается моральный идеал правдивого отношения к себе самим вместе с осознанием собственной неповторимости: «Каждый из наших голосов может сказать что-то свое»[7].
В сознании современности глубоко укоренилась идея о том, что существует определенный способ человеческого существования, уникальный и представляющий собой исключительно личную форму для каждого индивида. Этот уникальный способ проживания человеческой жизни заключается в том, чтобы быть аутентичным, подлинным. И такую модель проживания собственной человечности можно найти только внутри себя самого. Если бы я не был настоящим, аутентичным, я бы предал свою человечность, и эта индивидуальная уникальность была бы утеряна: «Быть настоящим в отношении самого себя означает быть настоящим в своей индивидуальности, которая представляет собой что-то, что только я сам могу открыть в себе и определить. Определяя эту уникальность, я определяю самого себя, реализую исключительно свой собственный потенциал»[8].
В этом заключается, согласно Тэйлору, моральная сила аутентичности. Она сама является моральным идеалом: идеал, понимаемый философом как «картина лучшего образа жизни»[9]. Эта картина предлагает модель того, чего мы должны бы желать и что не обязательно должно определяться тем, что мы непосредственно сейчас желаем или в чем конкретно в этот момент осознаем потребность.
Очевидно, что такой идеал может быть извращен. Он может деградировать или принять вид релятивизма, нарциссизма, субъективизма, нигилизма или эгоизма. Граница, отделяющая идеал от деградации, почти неощутима: очень легко перейти от личной самореализации к эгоизму или нарциссизму.
Поиск самореализации, концентрируясь вокруг нашего «я», может легко перейти на потребности общества или природы и в таком случае отвернуться от истории и от солидарности. Такое отклонение стимулируется идеалом самого себя и усиливается искусственным и бюрократическим «здравым смыслом», который заставляет нас видеть все с технической точки зрения и неизбежно приводит к социальному атомизму.
Фактически люди, принадлежащие к культуре аутентичности, переживают это отклонение, когда «хотят сконцентрировать свою реализацию на индивидууме, делая все свои привязанности чисто техническими, и таким образом движутся в сторону социального атомизма. Они склонны видеть самореализацию сведенной только к удовлетворению своего «я», оставляя без внимания вопросы, поставленные самой историей человечества, традициями, обществом, природой или Богом; другими словами, питают радикальный антропоцентризм»[10].
Критика аутентичности основывается на рисках возможных отклонений, связанных с этим идеалом: нарциссизмом, релятивизмом, нигилизмом, эгоизмом. Зигмунт Бауман ввел метафору текучести и жидкости, чтобы описать негативизм культуры современности: «Жидкости, в отличие от твердых тел, не сохраняют свою форму. Можно сказать, что и среди людей есть такие „текучие”, которые не фиксируют пространство и не связывают время, никогда надолго не сохраняют свою форму и всегда готовы (и склонны) менять ее»[11].
Конечно, характеризовать культуру и окружение в терминах жидкости и текучести кажется достаточно пессимистичным, как если бы речь шла об обществе, которое движется лишь к более высоким уровням нарциссизма[12]. Впрочем, именно это отчаяние в отношении будущего Тэйлор описывает как поиск. То, как проявляет себя аутентичность, – в которой каждый стремится распознать свой неповторимый путь, быть настоящим и искренним в отношении самого себя, – это вовсе не отчаяние или упадок моральных идеалов. Все это является выражением поиска. Канадский философ признает, что анализ культуры выражает тревожную обеспокоенность за серьезные политические последствия изменений. Этот анализ правдив в том, что он отображает, но в нем также открыто выражается презрение к описываемой культуре, и это мешает видеть тот моральный идеал, который стоит за наблюдаемым феноменом[13].
Тэйлор считает возможным ведение разумного диалога с людьми, погруженными в культуру аутентичности, для которых, как кажется, наивысшим принципом является лишь собственная самореализация. Эта возможность не является произвольной, но основывается на диалогическом измерении, которое сопровождает человека в процессе конформации и определения собственной идентичности. Диалог — это то целительное средство, которое заключается вовсе не в осуждении, защите или принятии нейтральной позиции по отношению к аутентичности, но помогает вновь открыть тот идеал, на котором основывается аутентичность и который необходим для обновления действительной повседневной жизни.
Поэтому необходимо с особым вниманием и симпатией отнестись к этому идеалу, который является источником жизни для аутентичности, и исходя из этого постараться убедить людей, пытаясь, прежде всего, ставить на первое место качество их образа жизни и делая более ясным влияние на жизнь того идеала, к которому они стремятся: «Надо, чтобы мы отстаивали настоящее значение аутентичности, […] мы должны пытаться убедить людей в том, что самореализация, далеко не исключающая безусловные взаимоотношения и выходящие за пределы „я” моральные вопросы, в конечном итоге в них же и нуждается»[14].
Культура аутентичности, как любая форма культуры, проникнута конфликтами и острыми моментами, которые проявляются разнообразными тенденциями проживания идеала, питающего эту культуру. Может статься, что преобладающие тенденции окажутся в итоге наиболее упадочными формами этого идеала, но нельзя сбрасывать со счетов и более редкие тенденции. В культурном поле, утверждает Тэйлор, идет постоянная борьба: «Я предполагаю, что по этому вопросу нам не следует искать тенденций, какими бы они ни были, преобладающими или нет, но следует избавиться от искушения определять необратимые тенденции. Тогда мы увидим, что имеет место борьба, чей результат имеет решающее значение для всех[15]».
В этом смысле важнее всего оказывается само существование многообразия тенденций, как преобладающих, так и единичных, и осознание того, что культурный прогресс не наступит вследствие маргинализации какой-либо части культуры, но он зависит от того, что движет всем этим многообразием. Тэйлор предлагает различать форму (manner) материи и ее содержание (matter or content): «На уровне идеала аутентичности эта форма четко коррелирует с принятием той или иной формы жизни. Аутентичность весьма самореферентна: я четко знаю, куда должен идти. Но это не означает, что на другом уровне содержание должно быть самореферентно, т.е. что мои цели должны выражать или удовлетворять мои желания или стремления, даже если что-либо им препятствует. Я могу найти свою самореализацию в Боге, или в политическом движении, или в возделывании земли. Фактически […] мы обретем неподдельную самореализацию только в чем-то подобном, в чем-то, что имеет значение независимо от нас или наших желаний[16]».
Возможность такого диалога подразумевает веру в три противоречащих друг другу идеала. Первый идеал заключается в том, что аутентичность сама предоставляет собой ценность и идеал (в противовес культуре, которая судит аутентичность на основании ее отклонений). Второй – в том, что можно аргументированно спорить об идеалах и об их соответствии реальной жизни (в противоположность абсолютному субъективизму). Наконец, третий идеал – в том, что такие размышления не бесплодны (то есть существуют возможные практические результаты)[17].
Вера «аутентичности»
Новый тип верующего, или верующий, попавший под влияние культуры аутентичности, особенно среди молодого поколения[18], проживает свою веру как настоящее противостояние между индивидуализмом и общиной, автономией и зависимостью, между свободой и зрелыми привязанностями, между внешней религиозностью и повседневным поведением, между тем, что предлагается делать, и что делается в действительности, между постоянством и непоследовательностью, повседневной рутиной и новым опытом, между сиюминутными стремлениями и долгосрочной ответственностью, между прошлым и будущим, между окружающей реальностью и реальностью далекой, и так далее.
Тенденция к индивидуализму не исключает, но, напротив, требует настоящей дружбы, необходимости принадлежать к сплоченной группе. Можно прибегать к помощи твердых общественных структур и в то же время уважать свободу каждого. С другой стороны, утверждение автономии и индивидуальности и движение к ней вообще не исключает определенной зависимости и влечения к объединяющим началам.
Акцент на внешнем как определяющем идентичность создает такой тип христианской жизни, который можно назвать «корпорационным»[19]. Такие «корпорации» духовного опыта обладают внешними атрибутами, при помощи которых эта корпорация выделяет себя из остальных (кепки, ручки, майки с логотипом, постеры). При этом на принадлежности этой конкретной группе ставится настолько большой акцент, что традиционная общехристианская община верующих уходит на второй план. Впрочем, ее уход на второй план вовсе не означает ее исчезновения.
Корпоративизм не ищет обращения, но пытается найти свой собственный язык, стиль, атмосферу семьи и идентичности. Внутри такие группы действительно характеризуются теплой и радушной атмосферой совместной жизни, которая заставляет думать о настоящей христианской братской любви. Социальная тема не существует. Бо́льшая часть энергии идет на решение вопросов привязанностей и личностной зрелости, в то время как тема социальных проблем не затрагивается. Члены группы активно участвуют в программах краткосрочного волонтерства, в которых от них требуется лишь немного времени и крайне мало ответственности. В таких видах деятельности они получают опыт альтруизма, заботы, милосердия и солидарности. Им нравится такая фрагментарность жизни, поскольку они не думают о том, чтобы как-то изменить мир. Они определяют самих себя не как стабильных и сильных людей, но, напротив, как уязвимых и слабых. Прошлое для них слишком тяжело, будущее — слишком неясно; их верность обращена только к настоящему, к тем счастливым моментам, которые они действительно могут контролировать.
Ги Дебор (Guy Debord) приводит в качестве цитаты знаменитую арабскую поговорку, согласно которой «люди больше похоже на свое время, чем на своих отцов[20]». Если принять это наряду с тем, что именно аутентичность характеризует наше общество, то неизбежно встает вопрос, возможна ли вера в эпоху, в которую люди, кажется, больше не принимают наивысшего принципа собственной самореализации. Или же, напротив, является ли дискомфорт, испытываемый верующим, проявлением поиска, который не находит удовлетворительного ответа, следуя предлагаемыми путями? И, как следствие, ради честности с самими собой люди не замечают необходимости самим искать путь?
У веры есть свои потребности, она возникает в конкретное время в конкретном месте, она обращена к тем, кто в состоянии принять ее, она подразумевает способность отказаться, отречься от самого себя, способность помнить и ждать; наконец, она подразумевает и само то, что ее определяет: довериться Другому, позволить себе быть пойманным Другим. В наше время, подчиняющееся идее «здесь и сейчас», эти ценности не находят особенного отклика, а жизненный выбор пути веры приносит ощущение нахождения «позади», и оно еще более ослабевает намерение твердо придерживаться выбранного пути[21]. Путь веры кажется «навсегда» отторгнутым обществом, он выставляет странное требование «ставить все лишь на одну карту», и именно в такой среде мы и призваны проживать нашу веру.
Начиная с самых своих истоков, христианство предлагало жизнь, противоположную доминирующей культуре, но это никогда не означало оставление мира (fuga mundi) — одно из самых частых заблуждений касательно идеала монашеской жизни. Напротив, эта жизнь означала присутствие в мире без принадлежности ему (Ин 17, 15-16). Сложность жизни в вере и в следовании выбранному пути вовсе не означает, что это невозможно, пусть даже современная культура всячески пытается доказать обратное. В таких условиях жизнь в вере представляет собой борьбу, которая, как ни удивительно, оставляет за собой не жертвы, но настоящие, аутентичные жизни, которые достигают настоящей свободы только лишь благодаря глубокому единению с Тем, Кто их призвал.
Изменить повседневную жизнь
После того, как мы обрисовали общую картину, не так трудно выявить в ней и фигуры отдельных персонажей, деятелей религии «эпохи аутентичности». В целом можно утверждать, что эти фигуры встречаются чаще всего, хоть и не исключительно, в феномене пятидесятничества, присутствующем во всех христианских деноминациях. Из этого следует вопрос: способен ли человек, обладающий такими характеристиками, вести жизнь, которая не только будет требует от него самоотверженности, ответственности, бескорыстности, щедрости, но и будет при этом довольно скучной и рутинной?
Впрочем, те, кого мы описали в профиле – или в профилях – верующих «эпохи аутентичности», далеко не всегда признают себя таковыми. И в этом заключается фундаментальная проблема. Набросанные профили не соответствуют тому, как эти люди в действительности следуют по своему пути. Верующие могут даже принять собственные противоречия, но эта проблема свойственна не только им: подобное может случиться в любой группе. Не всегда получается добиться соответствия между запланированным и прожитым в реальности, не всегда удается сделать то, что было задумано.
Сопротивление, проявленное в отношении такого «диагноза», описывающего состояние современных верующих, рождается от восприятия негативной оценки вдобавок с большим количеством предрассудков. Трудно представить, чтобы кто-то мог всерьез воспринять и разделить позицию, которая на первый взгляд выглядит обесценивающей и подается в нелицеприятной форме. С одной стороны, этот внутренний негатив, который она несет и который воспринимается через подачу, препятствует диалогу, в котором собеседнику не остается ничего другого, кроме как принять диагноз касательно своего состояния и предлагаемые средства помощи, если таковые вообще предлагаются. С другой стороны, обесценивающий тон делает близоруким взгляд говорящего. Эта близорукость мешает ему увидеть действительность во всей своей глубине: больше не удается заметить, что движущей силой такого разнообразия путей и борьбы за аутентичность является сильный моральный идеал, насколько исковерканными или замаскированными не были бы его проявления[22].
Кроме этого, поколения культуры и веры эпохи аутентичности всегда чувствуют и воспринимают себя непонятыми и — в этом заключается наибольшая трудность — истинность их личной борьбы отрицается, той борьбы, которую каждый ведет, чтобы найти свой собственный путь. Или, другими словами, они ощущают, что абсолютную уникальность любого индивидуального опыта хотят привести к чему-то единому и общему или, по крайней мере, к чему-то порожденному конкретным контекстом и разделяемому конкретной группой.
Ясно, что всегда присутствует угроза отклонений. Духовная жизнь может прийти в упадок, может потерять интерес к истории, которую призвана изменять. Предлагаемая Тэйлором работа по восстановлению пытается обновить каждодневную практическую жизнь. Этот труд, примененный к вере аутентичности, может привести к тому, что вера, помещенная в данную культуру, заново обретет свою евангельскую плодотворность, снова станет солью земли и светом мира (Мф 5, 13). Чем же должно характеризоваться такое восстановление?
Прежде всего должна быть признана аутентичность поиска, который сегодня свойственен всем широко распространенным формам религиозности. Речь идет вовсе не о том, чтобы демонизировать их исходя из их возможных отклонений или, напротив, безапелляционно принять их индивидуальное право на собственный путь. Суть заключается в том, чтобы признать, что проживаемый ими поиск сопряжен с большим напряжением. Напряжением, которое «рождается из ощущения идеала, который так и не удалось познать в действительности. И это напряжение может превратиться в борьбу, в которой люди пытаются отличить недостатки от практики и критически к ней относиться[23]».
Во многих случаях церковным ответом на это является увеличение количества предлагаемых религиозных форм. Такой рост различных движений внутри Церкви, что само по себе не плохо, нередко отвечает логике устроенности: чем больше появляется новых движений, тем лучше, потому что найдется место для каждого. Каждый может выбрать движение, которое более всего отвечает его жизненному поиску и потребностям.
Действующий здесь принцип заключается в устроенности, в том, чтобы «привлечь больше людей». Как следствие, это приводит к сведению веры к инструменту, который используется для индивидуальных нужд, но чей главный смысл утерян. Когда я вступаю в группу, я нахожу то, что искал, но это не меняет меня, не заставляет меня принять ответственное решение согласно евангельским принципам. Другими словами, принадлежность к Церкви, христианская жизнь не реализуются в построении общественного блага и евангельской трансформации мира; напротив, кажется, что они их напрямую избегают.
До тех пор, пока разнообразие этих движений будет поддерживать вызывающую новизну христианской жизни, богословские размышления, пытающиеся смотреть на действительность в самом глубинном ее измерении, должны занять свое место путем диалога и убеждения, «пытаясь убедить людей в том, что самореализация вовсе не исключает безусловных взаимоотношений и превосходящих собственное „я” моральных вопросов, но в определенной мере требует их. Борьба не должна вестись за аутентичность или против нее, но за защиту настоящего значения аутентичности[24]».
Кроме этого, такое признание должно также включать глубокое отношение и участливое внимание к тем, кто находится в поиске, а также очищение языка, и т.д. Разнообразие тех путей, при помощи которых вера аутентичности пытается выразить себя, необязательно означает забвение того, что произошло ранее в истории, или же отрицание легитимности и аутентичности пройденных путей, или отречение от традиций и общественного наследия. Скорее, оно означает противопоставление всему, что пытается подавить аутентичность и уникальность каждого индивидуального опыта. Если и правда христианское откровение оставляет место для индивидуального опыта каждого, то точно так же оно гарантирует, в силу собственной природы, поиск, которым характеризуется культура аутентичности.
Богословские размышления, сопровождающие эту работу по восстановлению, предоставляют возможность открыть новые пути к неизбежной потребности в вере, воплощающей благую весть Царства. Без этой работы теологические размышления свелись бы только к пророчествам бед и несчастий, к безнадежной жалобе, полной предрассудков и презрения, пусть даже они были движимы добрыми намерениями в своей постановке диагноза вере аутентичности как опыту избегания собственных потребностей. Призыв Папы Франциска весьма красноречив: «Надо, чтобы нас могли видеть не как экспертов по апокалиптическим вердиктам или мрачных судей, стремящихся выявить любую угрозу или отклонение, но как радостных вестников высоких идеалов, хранителей добра и красоты, которые сияют в жизни, верной Евангелию» (Evangelii gaudium, п. 168).
Единственным способом, при помощи которого мы можем сохранять критичность без воздействия на поиск аутентичности, остается попытка показать, как самореализация, не задающая себе глубинных вопросов, превосходящих личные интересы и желания (превосходящих «абсолютный эгоизм»), в конечном итоге приводит к изоляции и ослаблению нашего «я» и, как следствие, не отвечает целям аутентичности. Таким образом, удастся разбить «культурный пессимизм[25]» и оказать сопротивление искушению необратимых тенденций.
***
[1] Тэйлор родился в Канаде в 1931 году. По мере развития своей научной карьеры, он преподавал в Оксфорде, в университете Монреаля и в McGill University, где является почетным профессором. Помимо истории философии, он занимался политической философией и философией социальных наук. Значителен его вклад в коммунитаризм, в космополитизм и в изучение отношений между религией и современной культурой: в частности, он признан одним из самых выдающихся исследователей в области секуляризации. Среди его работ следует особенно отметить Sources of the Self (1989), A Secular Age (2007), The Language Animal (2016). Он получил международное признание и множество премий, в том числе премию Ратцингера в 2019 году. См. M. P. Gallagher, La critica di Charles Taylor alla secolarizzazione, в Civ. Catt. 2008 IV 249-259; G. Mucci, Identità moderna e cristianesimo in Charles Taylor, там же, 2010 II 141-148; Id., Un colloquio pubblico tra Charles Taylor e Christoph Schönborn, там же, 2011 II 450-455.
[2] C. Taylor, The Ethics of Authenticity, Cambridge (Ma) — London, Harvard University Press, 2003, 16.
[3] G. Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, Salamanca, 1975, 80 (в ит. пер. Teologia della liberazione. Prospettive, Brescia, Queriniana, 1981).
[4] Христианская роль в истории конкретизировалась в Церкви и в богословской мысли Латинской Америки в виде «предпочитаемого варианта для бедных», заключающегося в вере в Христа. Этот вариант для бедных является также путем заботы об общем доме в стремлении «слышать как призыв земли, так и призыв бедных» (Франциск, Laudato si’ [LS], п. 49).
[5] См. J. L. Segundo, Liberación de la teología, Buenos Aires, Carlos Lolhé, 1975, 12.
[6] U. Vázquez, Padecer e saber, в Perspectiva teológica, январь-апрель 2016, 16. Спиритуализм является болезнью духа, «пневмопатологией» (от греч. «пневма» — «дух», прим. переводчика) (см. G. Parotto, Pneuma e pneumopatologia nel pensiero di Eric Voegelin, в Politica e religione. 2010-2011, Brescia, Morcelliana, 2012, 233-259). Папа Франциск сухо прокомментировал эту концепцию как «суетность духа» (см. Evangelii gaudium, п. 93).
[7] C. Taylor, The Ethics of Authenticity, cit., 39.
[8] Там же, 29.
[9] Там же, 16.
[10] Там же, 58. Папа Франциск говорит о «деспотичном» и «девиантном» антропоцентризме, который ставит в центр человека и придает абсолютную ценность сиюминутным интересам, в то же время полностью игнорируя, к собственному вреду, взаимосвязь между всем в мире (см. LS 68-69). См. Rivas, A esperança como chave de leitura da “Laudato si’”, в A. Murad — E. V. B. Reis — M. A. Rocha (ed.), Tecnociência e ecologia: múltiplos olhares, Belo Horizonte, Lumem Juris, 2019, 29-45.
[11] Z. Bauman, Modernità liquida, Roma — Bari, Laterza, 2004, VI. В итальянском переводе были опубликованы также и другие работы этого автора: Amore liquido (2003), Vita liquida (2005), Paura liquida (2006), Futuro liquido (2014), Nati liquidi (2017).
[12] Ср. C. Taylor, The Ethics of Authenticity, cit., 76.
[13] Тэйлор также ссылается на эти работы: D. Bell, Le contraddizioni culturali del capitalismo, Torino, Einaudi, 1978; C. Lasch, La cultura del narcisismo, Milano, Bompiani, 2001; Id., L’ io minimo, Vicenza, Neri Pozza, 2018; G. Lipovetsky, L’ era del vuoto, Milano, Luni, 2018. См. C. Taylor, The Ethics of Authenticity, cit., 14.
[14] C. Taylor, The Ethics of Authenticity, cit., 72.
[15] Там же, 79.
[16] Там же, 82.
[17] Там же, 23.
[18] См. E. Rivas, La fidelidad a la intemperie. Pensar en fidelidade en la vida religiosa hoy, в CLAR 3 (2007) 9-19; Id., The Faith of „Authenticity”: Challenges and Prospects for Liberation Theology, в The Heythrop Journal 60 (2019) 871-882.
[19] Cм. P. Trigo, «Mística y profecía en la vida religiosa», в Iter 15 (2004) 113-117.
[20] G. Debord, Comments on the Society of the Spectacle, London, Verso, 1990, 13.
[21] См. Z. Bauman, Amore liquido, Roma — Bari, Laterza, 2017.
[22] См. C. Taylor, The Ethics of Authenticity, cit., 15.
[23] Там же, 76.
[24] Там же, 72.
[25] Там же, 78.