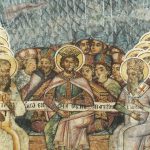Джанкарло Пани SJ
Пять веков назад, в 1524—1525 гг., у Эразма Роттердамского и Мартина Лютера в водовороте событий, связанных с Реформацией, случился жаркий спор о «свободе христианина». Их работы О свободе воли и О рабстве воли произвели сенсацию и обозначили разрыв между христианским гуманизмом и духом Реформации: ведь обсуждалась проблема спасения, зависит ли оно также и от свободного человеческого решения[1].
В 1520 году Лютер опубликовал одну из трех работ, ключевых для Реформации, О свободе христианина, ставшую прелюдией к работе О рабстве воли. Уже в начале книги — фундаментальное замечание: нельзя рассуждать о вере, если она не прошла через испытания, то есть в добродетели не разбирается тот, кто ее не практикует[2]. Говорить о ней можно только на основе личного опыта, не понаслышке. Так и со свободой христианина. Чтобы определить ее, Лютер выстраивает два утверждения: «1) Христианин — всему господин, абсолютно свободный, не подчинен никому. 2) Христианин — рьяно служит всему на свете, подчинен всем»[3]. Только Евангелие его освобождает, поскольку Иисус, «Господь над всеми […] свободен и в то же время Слуга»[4], Его служение ближнему продиктовано любовью, Он служит даром, без всякой корысти. Эти тезисы подтверждены апостолом Павлом: «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя»[5].
Взаимное уважение
Эразм и Лютер не были знакомы лично, но уважали друг друга. По крайней мере до Лютеровых публикаций 1520 года Эразм считал его хорошим проповедником и отличным богословом, хотя собственная его позиция в отношении Лютера неясна: с одной стороны, Эразм не признавал себя предтечей Лютера, с другой — с очевидным довольством отмечал: то, что говорит реформатор, уже было сказано им, Эразмом; однако не одобрял Лютерову манеру выражения, называя ее «догматическим упрямством»[6]. Когда отовсюду раздавались просьбы написать против Лютера, Эразм неизменно отказывался.
Со своей стороны, реформатор высоко оценивал Эразмов Новый Завет, который можно считать предтечей критических изданий греческого текста: пользовался им в 1516 году, комментируя в Виттенберге Послание к Римлянам, а затем, в 1521 году, для перевода Нового Завета, сыгравшего существенную роль в формировании немецкого языка.
В 1516 году, через Спалатина, капеллана и секретаря курфюрста Фридриха Мудрого, Лютер передал гуманисту несколько замечаний о неясном толковании первородного греха в гл. 5 Послания к Римлянам[7].
Реформатор хотел бы видеть Эразма на своей стороне, учитывая его филологические компетенции. Но уже давно Лютер раскусил Эразма: «Для него человеческое важнее Божьего»[8]. Сравнивая его с Августином, реформатор замечает, как мало значения придавал свободе воли учитель из Гиппона: это центральный пункт диспута о свободной воле.
Второе письмо, от 28 марта 1519 года, возможно, имело целью пригласить Эразма присоединиться к новому движению: Лютер знал, что Эразм положительно оценивает Виттенбергские тезисы, и в предисловии к Enchiridion militis christiani находил собственные критические мысли о церковных злоупотреблениях и схоластике. Гуманист в ответ подтвердил свою приверженность доброй переписке и призвал к умеренности вместо бунта[9]. Эразм защищал Лютера перед Фридрихом Мудрым: дескать, чистота нравов ставит его «выше всяких подозрений в корысти или амбициях»[10]. Если же протест Лютера считается злом, нужно искать его причины: «Мир угнетен человеческими установлениями, угнетен схоластическими догмами. […] Все это подвигло дух Лютера дерзко воспротивиться невыносимой наглости некоторых. […] Сегодня все неугодное, все непонятное — ересь. Владеть греческим — ересь. Изъясняться отточенным языком — ересь. Все, чего сами они [церковные люди] не делают, — ересь»[11].
Искра
Похоже, что Эразм и Лютер придерживались одних мыслей, хотя гуманист не скрывал обеспокоенности агрессивной позицией, занятой Лютером. Публикация буллы Льва X Exsurge Domine (15 июня 1520 г.), грозившей отлучением, подтвердила, что опасения небеспочвенны.
В Базеле, где укрылся Эразм, к нему не раз поступали просьбы занять ту или иную сторону. Как Лев X, так и Адриан VI, его соотечественник и друг, уговаривали Эразма высказаться. Однако последней каплей стало письмо, полученное от Лютера в апреле 1524 года. Слухи о возможном вмешательстве Эразма дошли до реформатора, и он просит гуманиста остаться просто зрителем, а главное — не выступать против него, Лютера: «Ведь атака от Эразма — совсем иное дело, чем от всех Пап, вместе взятых»[12]. Если коротко, Лютер просил об интеллектуальной капитуляции: письмо было «жесткое, по-человечески почти не приемлемое»[13].
Свобода христианина
Эразм отреагировал не сразу — предположительно надеялся, что «еще возможно сберечь мир сдержанностью, мудростью и доброжелательностью»[14]. Но в начале сентября 1524 года в Базеле увидела свет диатриба О свободе воли[15]. Папа Климент VII вздохнул с облегчением. Пришли поздравления от Генриха VIII и Георга Саксонского; Эразма хвалили канцлер императора Меркурино Гаттинара, философы и богословы. Однако многих удивила избранная тема.
Гуманист решил поспорить о том, в чем между ним и Лютером дистанция огромна: о свободной воле. За отправную точку взято утверждение, каким реформатор ответил на буллу об отлучении: «Свободная воля после первородного греха — просто название, и когда она делает то, что в ней, то грешит смертно»[16]. Для Эразма это абсурдно, и он поясняет свое мнение перед дискуссией: «Свободная воля — как та возможность человеческой воли, в силу которой человек либо занимается всем тем, что ведет его к вечному спасению, либо, напротив, удаляется от этого»[17].
Таким образом Эразм атакует основу Лютерова богословия, то есть принцип sola gratia: а поскольку спасение дается только по благодати, все, что человек может совершить собственными силами для своего спасения, — грех. В работе Свобода христианина Лютер написал, что оправдывают «только Христовы» заслуги[18]. Согласно Эразму, это утверждение, хотя и брошенное мимоходом, представляет собой один из парадоксов христианской духовной жизни: заслуги — одни и те же заслуги — вместе и Христовы, и верующего, приходят от Него, и это Его заслуги, но реально достигнуты и мною тоже, и они — мои. Здесь парадокс становится противоречием, если жизнь Духа, вместо того чтобы расширяться до трансцендентности, потому что в человеческий диалог вступает Божественный Собеседник, съеживается до рамок Лютеровой непримиримости, где обладает заслугами либо один, либо другой, нераздельно.
Тема непроста: «В Священном Писании нет, пожалуй, лабиринта безвыходнее, чем свобода воли»[19]. Вначале Эразм признает, что он не богослов и потому малокомпетентен: «И к тому же [я] так мало склонен к догматическим утверждениям, что с легкостью занял бы скептическую позицию всякий раз, как мне это дозволят авторитет Священного Писания или решения Церкви, которым я всегда охотно подчиняю свое мнение, независимо от того, понимаю или не понимаю то, что мне велено»[20]. Здесь Эразм выказывает всецелое уважение к Слову Божию и заявляет, что верен Церкви. Но Лютер будет шокирован[21].
Аргументация Эразма
Рассуждение состоит из двух частей: сначала рассмотрены библейские тексты, утверждающие свободу человека, а затем те, что, по видимости, ее отрицают. К первой группе относятся цитаты из Книг Премудрости: «[Бог] от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его» (Сир 15, 14–15). Затем добавил заповеди и предписания: «Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность»[22]. С этими текстами перекликается работа Philosophia Christi, где Эразм проводит различение между откровенными истинами и теми, каких человеческий ум не может понять (например, Троица): первые «относятся к правилам, предназначенным для регулирования нашей жизни. О них сказано: “Вот Слово Божие: не нужно идти искать его высоко в небе, ни привозить из самых дальних заморских стран, ибо оно в устах наших и в сердце нашем”»[23]. То, чего Бог требует, не далеко, а близко ко мне, даже внутри меня. Здесь подчеркнута ценность человеческого разума, способная преодолеть даже некоторые следствия первородного греха: «Ту силу души, посредством которой мы выносим суждения, […] грех, конечно, затемнил, но не угасил»[24]. Благодать поддерживает волю, но не подменяет собой.
В Новом Завете есть немало велений, которые можно выполнить: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое» (Мф 19, 21); «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее» (Лк 9, 23–24)[25]. Эти обязывающие требования были бы бесполезны, если у человека нет свободы их выполнить.
Вот и апостол Павел, обращаясь к коринфянам, призывает к моральному совершенству и замечает, что если бойцам дается тленный венец, то нам — нетленный (ср. 1 Кор 9, 25)[26]. Трудные места в посланиях Павла — «не об отмене свободной воли, а об удалении от гордости, ненавистной Господу»[27].
Если и вправду все, что мы делаем, детерминировано и не исходит из свободной воли, обрушится здание нравственности: «Кто из грешников мог бы при таких условиях выдержать постоянную и трудную борьбу против собственной плоти? Какой злодей взялся бы за исправление своей жизни?»[28] Тем самым Эразм отстаивает учение Церкви: защищает права свободы, без которой не бывает нравственной жизни, а также права благодати, поскольку без нее невозможна жизнь христианская. Однако благодать, помогая свободе воли, не отменяет ее.
Поэтому Эразм не соглашается с пелагианами, отдающими слишком много свободной воле[29], и отвергает противоположное мнение Августина и его учеников, «склонных преувеличивать действие благодати, — действие, которое Павел подчеркивает во всех своих писаниях»[30]. И вот главный вывод: «Все же есть добрые дела, хотя и несовершенные, и человек не может ими хвалиться без того, чтобы не сделать их поводом для гордости; да, есть заслуги, но нужно признать: если что достигнуто, тем мы обязаны Богу. […] Но мы не дойдем до такой крайности, чтобы назвать человека, даже оправданного, не более чем кучей грехов, когда Сам Христос нам говорит о новом рождении, а Павел — о новом творении»[31].
Можно было бы ссылаться на философов и учителей, но, поскольку Лютер единственным авторитетом считает Писание, аргументация базируется только на Слове Божием. Однако вопреки тому, что говорит Лютер, Библия вовсе не ясна сама по себе. По мнению Эразма, чтобы ее понять, помимо Духа, требуются соответствующие знания[32].
Что касается утверждений, по видимости отрицающих свободу воли, они нуждаются в толковании, потому что Писание, будучи произведением одного Духа, не может противоречить себе[33]. Особого внимания заслуживает утверждение в Ин 15, 5: «Без Меня не можете делать ничего». По мнению Эразма, «ничего» — это «мало», то есть ничего совершенного. Такое толкование приведет Лютера в ярость: «ничего» отнюдь не значит «мало»[34], а только ничего!
Однако, когда Лютер утверждает, что «наша воля может не более, чем глина в руках горшечника; что все, что мы делаем и желаем, исходит из абсолютной необходимости, мой дух [возражает Эразм] немало встревожен; как можно столь часто говорить о награде, если нет заслуги?»[35] Иными словами, зачем Писание наставляет и предостерегает, призывает к молитве и обращению, если все происходит по неизбежной необходимости? Кроме того, «если человек ничего не делает […], нет более ни наказания, ни награды»[36]. Чтобы кого-то осудить, он должен отвечать за то, что делает, а значит — обладать свободой выбора между добром и злом. Свобода воли драгоценна, в ней достоинство человека. Вывод Эразма: парадоксы реформатора ведут «христианский мир в хаос»[37]. Что до меня, говорит Эразм, если бы я этого не понял, то охотно принял бы наставление в евангельской истине даже от юнца.
Критика в адрес «De libero arbitrio»
Однако нашлись и те, кто критиковал или красноречиво промолчал: если Генрих VIII похвалил автора Диатрибы, то Эразмовы английские друзья Томас Мор и Джон Фишер не высказались; да и Георг Саксонский, поразмыслив, призвал гуманиста написать еще что-нибудь против Лютера, поставив на вид Эразму, что тот слишком церемонится с «еретиком» и не обличил ясно его ошибки[38].
А кто хорошо понял ценность Диатрибы о свободе воли, так это Лютер. Завершая свой трактат, он найдет примечательные слова благодарности для Эразма: «За одно тебя хвалю, […] ты единственный из всех рассмотрел настоящий вопрос, ключевой пункт, не докучая мне иными неуместными предметами, такими как папство, чистилище, индульгенции и тому подобное. […] Поэтому благодарю тебя от всего сердца»[39].
Рабство воли
Вопреки тому, чего мы могли бы ожидать, Лютер ответил Эразму не сразу: его занимали крестьянский бунт, полемика с «небесными пророками», чума в Виттенберге; к тому же закрывались монастыри, их насельники обоего пола оставляли монашескую жизнь и вступали в брак. Вызвала удивление свадьба Лютера: еще недавно он решительно утверждал, что не женится. Однако 13 июня 1525 года заключил брак с Катариной фон Бора, бывшей монахиней.
Ответ, наконец, появился — более года спустя, 31 декабря 1525 года: О рабстве воли[40]. Гроза обрушилась на гуманиста: насколько Эразм высказался уравновешенно, сдержанно, спокойно, настолько Лютер отвечает агрессивно, яростно, многословно, но и не без блестящих замечаний. Реформатор раздосадован: «Невероятно, сколько неприятностей мне доставила книжонка о свободной воле. […] Столь безграмотная книга от столь грамотного автора»[41].
Для начала: «По такому важному вопросу ты не говоришь ничего, что уже не было сказано; даже говоришь меньше и приписываешь свободной воле больше, чем […] софисты»[42]. В отрезке между «меньше» и «больше» Лютер находит достаточно места, чтобы опровергнуть собеседника: ссылается на Павлово различение в 2 Кор 11, 6 между красноречием — тут Эразм мастер — и богословием. Не желая ничего утверждать и вместе с тем беря на себя роль оратора на тему свободной воли, Эразм не знает, о чем говорит. Вечно уклончивый и неоднозначный, осторожнее Улисса, он вроде бы пробрался между Сциллой и Харибдой[43], но не сказал вообще ничего, даже оказал медвежью услугу свободной воле и тем самым предоставил «явное подтверждение тому, что свободная воля — чистой воды ложь»[44]. Далее следует очень суровое обвинение: Эразм — «атеист»[45]; думает «о Боге слишком по-человечески»[46]; не сумел постичь основное учение Писания, что Бог — это Бог, абсолют, а человек — это человек, то есть зависит от Бога: поэтому «именно Его воля всем управляет»[47].
Лютер сразу возражает Эразму, что Священное Писание ясно, потому что оно есть Слово Божие: следовательно, библейская экзегеза — это верное слушание Слова, которое исходит из всемогущества Божия и противоречит людской мудрости и греху мира. Если какие-то фрагменты кажутся неясными, тому причиной «наше незнание слов и грамматики, но оно не мешает [с ними] ознакомиться»[48]. Христос — центр и ключ к толкованию Писания, Ветхого и Нового Завета: «Изыми Христа из Писаний, что там останется?»[49] Он — Слово Божие, ставшее Плотью, Он являет неустранимый контраст между плотью и духом, между грехом мира и Божественным Милосердием. Итак, если следовать за учителем мудрости, то не за слишком человеческим Иисусом Эразма, а за Тем, Кто по вере спасает грешного человека Крестом. К тому же Эразм в Писании «видит только законы и заповеди, служащие для наставления людей в добронравии. И совсем не видит, что такое возрождение, изменение, восстановление и все дело Духа»[50].
Лютер отражает аргументы один за другим. Начиная с первого (Сир 15, 14): «И оставил его в руке произволения его… Если хочешь, соблюдешь заповеди». Здесь сказано, что человек разделен на два царства: в своем царстве «он движим собственной волей и собственным желанием, вне велений и заповедей Божиих, […] тогда как в Царстве Божием он руководствуется чужими велениями, независимо от собственной воли. […] Отсюда мы заключаем, что этот фрагмент говорит не в пользу, а против свободной воли, поскольку, по его мнению, человек подчинен приказам и желанию Бога. […] Ведь “если хочешь” сказано в условном смысле, а значит тут ничего не утверждается. […] Если бы было желание утверждать свободную волю, следовало бы сказать: “У человека есть сила соблюсти заповеди”»[51]. Здесь диалектика между Законом и Евангелием: Закон диктует, что человек должен делать, но не дает к тому силы. Поэтому заставляет его признать бессилие человеческой воли и тем самым помогает понять, что без Христа никак не обойтись.
Лютер понимает, что диатриба о свободе воли ставит на кон абсолютную власть Бога, а потому рассматривает «свободную волю не на психологическом и нравственном, а на богословском уровне»[52] и указывает на бесконечное расстояние между Богом и человеком. Божие всесилие и всеведение — основа богословия, потому что Господь «все знает и предвидит и не может ни ошибаться, ни обманываться»[53]. Здесь возникает вопрос: на что способна воля человека, который и вправду многое может сделать из низшего, но ничего для своего спасения без благодати, потому что его волей владеет либо Дух Божий, либо дух бесовский. Если ею владеет Бог, она действует по необходимости — в чём нет насилия, — но она никоим образом не свободна. Она «поставлена посреди, как кобыла. Если Бог ее оседлал, она желает и идёт туда, куда хочет Бог, как сказано в книге Псалтирь: “Как скот был я пред Тобою” (Пс 73/72, 22). […] Если же ее оседлает Сатана, она желает и идет туда, куда хочет Сатана. И не в ее власти выбирать или искать себе одного из двух всадников, но это всадники сражаются друг с другом, чтобы ее заполучить и ею владеть»[54].
Эразм считает силу свободной воли слабой и незначительной, а без благодати совсем неэффективной — Лютер парирует: «Что не совершено благодатью Божией, то не может быть добрым. Следовательно, свободная воля, лишенная благодати Божией, отнюдь не свободна, но постоянно в плену и рабстве у зла, поскольку не может сама повернуться к добру»[55].
Что может человек?
Против аргументов Эразма Лютер выставляет два капитальных текста: «Господь ожесточил сердце фараона» (Исх 9, 12) и «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел» (Мал 1, 2–3). Эти тексты указывают, что свободная воля только у Бога. Однако нельзя приписать Богу грех фараона: «Бог не может совершать зла, хотя оно совершается через злодеев. […] Однако Он пользуется дурными орудиями, не могущими противиться Божьему велению. Подобным же образом плотник дурно работает тупым топором. Отсюда следует, что нечестивый может только ошибаться и грешить всегда»[56]. Итак, между Божественным Предвидением и человеческой свободой невозможно никакое согласие.
Таким образом, все Писание на стороне Лютера — чтобы лишний раз это подтвердить, он в конце своего сочинения выводит на ринг Павла. Согласно Посланию к Римлянам, «вне веры во Христа нет ничего, кроме греха и проклятия»[57]. Поэтому свобода воли — это рабство у греха. Более того, благодать дается тем, у кого нет заслуг, кто недостоин, и ее не добиться никакими человеческими усилиями. А в Рим 7 и Гал 5 сказано, «что в святых и благочестивых людях идет столь сильная борьба между духом и плотью, что они не могут делать того, чего хотели бы»[58]: апостол говорит здесь не только о грубых влечениях, но и о ереси, идолопоклонстве, разделениях, распрях — обо всем, что подавляет лучшие силы человека.
Наконец, Иоанн — самый «убедительный и действенный» бич свободной воли: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня (Ин 6, 44)»[59]. По мнению Лютера, это значит не только что дела и усилия свободной воли тщетны, но что слово Христово услышано напрасно, если Отец не привлечет к Себе верующего.
Свободная воля — в рабстве у греха
«Свободная воля равно бессильна во всех людях, […] и поскольку человек не может желать ничего доброго, он не что иное как грязь и невозделанная земля»[60]. Лютер, похоже, вовсе не обескуражен этой истиной, а, напротив, находит в ней причину для упования и радости, даже утешение, поскольку спасение не зависит от него: «Искренне признаюсь, что, даже будь такое возможно, я не хотел бы получить свободную волю. […] Мне пришлось бы вечно бродить впотьмах и бить мимо цели, поскольку моя совесть никогда не была бы вполне уверена, что делает должное, чтобы угодить Богу»[61].
Лютер упрекает Эразма и в том, что тот предпочитает мир истине: «Истина и учение должны быть проповеданы всегда, прилюдно и постоянно, […] поскольку в них не кроется никакого преткновения»[62]. Поэтому «только верой» и «только благодатью» — единственные источники спасения: «Бог несомненно обещал Свою благодать смиренным, то есть тем, кто считает себя погибшими и безнадежными (1 Петр 5, 5). Человек, с другой стороны, не может смириться полностью, пока не узнает, что его спасение отнюдь не достигается его силами, намерениями и прилежанием, его волей и делами, а всецело зависит от воли, решения, желания и дела кого-то другого, а именно — одного только Бога»[63].
Лютер завершает свою книгу восхвалением благодати, чтобы снова подчеркнуть, что все — рабы греха. Это относится не только ко грешному человеку, но к человечеству как таковому. Грех затронул сам корень человека, и тот в плену даже у самого себя, а пытаясь освободиться своими силами, только глубже погрязает в рабстве. Надо помнить, что Лютер, говоря о грехе, имеет в виду не только греховное действие, но и «вожделение», изначальный порок, любовь к себе, недоверие к Богу[64]. Итак, когда говорится, что человек раб греха, это значит, что он не может сделать совсем ничего для своего спасения: вот «ключевой пункт, настоящий вопрос»[65].
Герхард Эбелинг полагает, что книгу О рабстве воли можно назвать трактатом О Боге в том смысле, что бесполезно говорить о свободе воли, потому что «потерянная свобода уже не свобода, […] это термин без содержания»[66]; не имеет никакого настоящего представления о Боге тот, кто не осознал, что ничего нельзя сделать, чтобы спастись. Если б можно было что-то сделать, тщетным было бы дело Христа: не было бы никакой нужды в благодати. В этом смысле у человека не только нет свободной воли, но и никакой заслуги, потому что все зависит от Бога и Его Предвидения.
Эбелинг продолжает: но именно потому, что речь идет о Боге, надо говорить и о том, что человек может или не может сделать. И тогда О рабстве воли — это и трактат О человеке, то есть о повседневной жизни, где человек может делать все, чего требует разум: строить дома, возделывать землю, разводить кур, действовать в политической и экономической сфере[67].
Лютер нанес поражение свободной воле?
Напрашивается вывод, что Лютер окончательно разгромил Эразма с его свободной волей. Но вывод этот ложный, поскольку позиции обоих уходят корнями в гуманизм, а он не только миролюбив и берет за основу ценность и достоинство личности, но и трагичен, говорит о неуверенности, хрупкости, бедности человека и о бедствии греха. Не случайно, по мнению Лютера, Эразм затронул краеугольную тему Реформации, чреватую последствиями для Просвещения и для современного мира.
А Лютер выявил и обострил противоречия верующего: человек поле битвы между Богом и бесом[68] живет в напряжении между грехом и спасением, между плотью и духом. Этот конфликт также принадлежит к нашей современности. Но тут есть опасность забыть о важности индивида. Увы, в духовной бюрократии — за нее Эразм упрекает Лютера, — где владелец либо я, либо Бог, не бывает того, что «мое», но вместе с тем и Божие, и целиком Его дар.
Богословие Лютера заключено в финальной формулировке: «Нужно занять крайние позиции, целиком отрицать свободную волю и все возводить к Богу; при этом Писания друг другу уже не противоречат, а трудности если и не устранены, то хотя бы переносимы»[69].
Однако свобода, о которой ведут речь Эразм и Лютер, не абстрактное понятие, а дар Бога через Христа: этот дар делает человека христианином и относится к самой его идентичности. С другой стороны, кто получает этот дар, тот должен быть способен принять его, то есть быть свободным и ответственным. Лютер, напротив, подчеркивает всемогущество Божие и благодать, которая освобождает человека, но сам он не способен ничего сделать для своего спасения. Впрочем, как бы ни оценивать трактат О рабстве воли, это одна из главных работ реформатора[70].
Нельзя не отметить того, с каким уважением Эразм относится к Лютеру: видит в нем отнюдь не «еретика», а «богослова». К сожалению, память об этом ученом споре быстро ушла в пески истории. Похоже, о нем совсем забыли ко времени Тридентского Собора, и ни одному богослову не пришло бы в голову достать с пыльного чердака аргументы Эразма, которого тогда считали подозрительным автором.
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] С первых веков христианской истории велись памятные диспуты на эту тему, первый из них — между Пелагием и Августином.
[2] Ср. M. Lutero, La libertà del cristiano (1520). Lettera a Leone X, a cura di P. Ricca, Torino, Claudiana, 2005, 76–80.
[3] Там же, 80.
[4] Там же, 82. Ср. Флп 2, 6–7.
[5] Там же, 80: 1 Кор 9, 19; далее следуют Рим 13, 8 и Гал 4, 4.
[6] Письмо Лютера от 1 октября 1523 г., где он приводит упрек Эразма: pervicacia asserendi. Цитаты из работ Лютера взяты из веймарского критического издания: D. Martin Luthers Werke, Weimar, H. Böhlau, с 1883 г. и далее, за цитатой следует номер тома, страницы и строки. Аббревиатура WA обозначает письменные труды, а WABr[iefe] — эпистолярные тексты: здесь WABr 3, 160, 24. Эразм, дескать, весьма далек ab intellectu christianarum rerum (от понимания христианских вещей) WA 18, 603, 3 (там же). Веймарское издание доступно в сети: www.lutherdansk.dk/WA/D.%20Martin%20Luthers%20Werke,%20Weimarer%20Ausgabe%20-%20WA.htm
[7] Ср. WABr 1, 70, 5–10.
[8] «Читаю нашего Эразма, и мое расположение к нему убывает день ото дня. Он мне нравится, потому что обличает как монахов, так и священников […] и осуждает их закоренелое и тупое невежество. Однако боюсь, что он недостаточно внимания уделяет Христу и благодати Божией». Вывод: «Humana praevalent in eo plus quam divina (Человеческое в Нем преобладает над Божественным)» (WABr 1, 90, 19 сл.). Затем, возражая Эразму, Лютер замечает: «[Augustinus] arbitrio hominis nonnihil tribuit ([Августин] мало что приписывает свободной воле человека)» (там же, 90, 25).
[9] Ср. там же, 413, 36.
[10] P. S. Allen, Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami, III, Oxford, Clarendon, 1913, 530. Письмо от 14 апреля 1519 г.
[11] Его же, Opus Epistolarum…, цит., IV, там же, 1922, 103; 106. Письмо Альберту Брандебургскому от 19 октября 1519 г.
[12] WABr 3,271,56 сл. от 15 апреля 1524 г.
[13] Ср.: лютеранский историк M. Brecht, Martin Luther, II, Stuttgart, Calwer Verlag, 1986, 216.
[14] J. Huizinga, Erasmo, Torino, Einaudi, 2002, 177.
[15] De libero arbitrio diatribé sive collatio per Desiderium Erasmum Roterodamum, Basilea, Froben, 1524.
[16] Assertio omnium articulorum M. Lutheri per Bullam Leonis X novissimam damnatorum, 36: «Liberum arbitrium post peccatum res est de solo titulo» (WA 7, 142, 23). Это утверждение было осуждено Сорбонной. Лютер опирался на Евангелие от Иоанна, De spiritu et littera и De correptione et gratia Августина.
[17] Erasmo da Rotterdam — M. Lutero, Libero arbitrio. Servo arbitrio, a cura di F. De Michelis Pintacuda, Torino, Claudiana, 2009, 57.
[18] Christi solius: M. Lutero, La libertà del cristiano…, цит., 94.
[19] Erasmo da Rotterdam — M. Lutero, Libero arbitrio. Servo arbitrio, цит., 45.
[20] Там же, 46.
[21] Лютер возразит: «Разве недостаточно подчинить ум Писаниям? Ты подчиняешься еще и указам Церкви? Что она может решить, что уже не постановлено Писаниями? […] В итоге из твоих слов следует, по-видимому, что тебе совсем не важно, кто во что верит где бы то ни было, лишь бы в мире царил мир» (WA 18, 604, 36 слл.).
[22] Erasmo da Rotterdam — M. Lutero, Libero arbitrio. Servo arbitrio, цит., 59, где цитируется Сир 15, 14–15. II Ватиканский Собор обращается к этому тексту Иисуса сына Сирахова, когда нужно определить свободу человека: «Подлинная же свобода есть величайший знак образа Божия в человеке. Ведь Бог пожелал оставить человека “в руке произволения его” (Сир 15, 14), чтобы тот добровольно искал своего Творца» (Gaudium et spes, № 17).
[23] Erasmo da Rotterdam — M. Lutero, Libero arbitrio. Servo arbitrio, цит., 49. В цитате объединены Втор 30, 11–14 и Рим 10, 6–8.
[24] Там же, 60.
[25] Ср. там же, 71.
[26] Ср. там же, 74.
[27] Там же, 100.
[28] Там же, 50.
[29] Ср. там же, 63.
[30] Там же, 63; ср. 113.
[31] Там же, 113 сл. Ср. 2 Кор 5, 17.
[32] Ср. там же, 53.
[33] Ср. там же, 88.
[34] Ср. WA 18, 751, 37–40 (349): «Свободная воля — ничто, то есть сама по себе она бесполезна перед Богом; именно об этого рода предмете мы говорим, хотя и зная, что нечестивая воля есть нечто, а уже не чистое ничто». Номер в скобках после номера критического издания указывает на страницу в итальянском переводе: M. Lutero, Il servo arbitrio (1525), a cura di F. De Michelis Pintacuda, Torino, Claudiana, 1993.
[35] Erasmo da Rotterdam — M. Lutero, Libero arbitrio. Servo arbitrio, цит., 104.
[36] Там же, 88.
[37] Там же, 114.
[38] Ср. M. Venard, Salvare l’unità cristiana?, в Его же, Dalla riforma della Chiesa alla riforma protestante (1450–1530), Roma, Borla — Città Nuova, 2000, 785.
[39] WA 18, 786, 26–31 (415).
[40] De servo arbitrio Martini Lutheri ad D. Erasmum Roterodamum, Wittembergae, I. Luft, 1525. Название отсылает к работе Августина Contra Iulianum (Против Юлиана), где воля определена скорее как рабская, чем свободная: potius servum quam liberum arbitrium (12, 8, 23).
[41] WABr 3, 368, 30 сл.
[42] WA 18, 600, 21–601, 3 (72).
[43]Ср. там же, 34 (75). Ср. G. Chantraine, Érasme et Luther. Libre et serf arbitre, Paris — Namur, Lethielleux — Presses Universitaires de Namur, 1981, 160 сл.
[44] WA 18, 602, 26 (76).
[45] Ты «в душе Лукиан, или еще какая-нибудь свинья из стада Эпикура, который, полагая, что Бога нет, тайно смеется над всеми, кто в Него верует и Его исповедует» (WA 18, 605, 28–30 [82]).
[46] WA 18, 622, 15 s (104). Он и дальше продолжит настаивать: «Меня безмерно удивляет, что человек, потративший столько времени и усердия на изучение Священных Писаний, не знает их почти совсем» (WA 18, 693, 9–11 [240]).
[47] WA 18, 712, 32 (278).
[48] WA 18, 606, 22–24 (84); ср. также 639, 8–12 (130).
[49] WA 18, 606, 29 (84).
[50] WA 18, 693, 5–8 (240).
[51] WA 18, 672, 8–37 (202 сл.).
[52] G. Chantraine, Erasmo e Lutero: libero e servo arbitrio, в AA.VV., Martin Lutero, Milano, Vita e Pensiero, 1984, 40.
[53] WA 18, 719, 26 (289 сл.).
[54] WA 18, 635, 17–22 (125). Лютер заимствует эту метафору из патристических и схоластических источников. Один из современных исследователей называет ее «тревожной»: ср. M. Lodone, Erasmo e Lutero: libero e servo arbitrio, в A. Melloni (ed.), Lutero. Un cristiano e la sua eredità. 1517–2017, vol. I, Bologna, il Mulino, 2017, 230.
[55] WA 18, 636, 5–6 (125).
[56] WA 18, 709, 28–34 (272).
[57] WA 18, 774, 12 (389); ср. Рим 3, 21. 28; 14, 23: «Все, что не по вере, грех».
[58] WA 18, 783, 4–6 (405).
[59] WA 18, 781, 29 s (403).
[60] WA 18, 706, 4–6 (266).
[61] WA 18, 783, 17–26 (406). Это испытывают юстициарии (iustitiarii), которые оправдывают себя собственными делами (там же, 28).
[62] WA 18, 628, 27–29 (113).
[63] WA 18, 632, 29–32 (120).
[64] Ср. WA 56, 353, 5–354, 13. Вожделение само по себе не грех, а искушение ко злу; оно становится грехом, когда получает согласие воли. Иисус в Евангелии подвергается искушению, но отклоняет его (ср. Мф 4, 1–11; Лк 4, 1–13).
[65] Cardinem rerum et ipsum iugulum: WA 18, 786, 30 (415).
[66] WA 18, 670, 36 (199). Ср. G. Ebeling, Lutero. Un volto nuovo, Roma — Brescia, Herder — Morcelliana, 1970, 239.
[67] Вероятно, Лютер здесь думает о жене Катарине: она держала кур во дворе виттенбергского монастыря, который служил им домом. Ср. S. Nitti, Lutero, Roma, Salerno editrice, 2017, 269, где процитирован интересный фрагмент из комментария к Гал 2, 20.
[68] Ср. H. A. Oberman, Martin Lutero. Un uomo tra Dio e il diavolo, Roma — Bari, Laterza, 1987. По мнению Обермана, из книги О рабстве воли «можно было бы вывести учение Лютера в полном объеме, даже если бы из всех его писаний остались только эти страницы» (там же, 209).
[69] WA 18, 755, 35–37 (356).
[70] Ср. WABr 8, 99, 7–8.