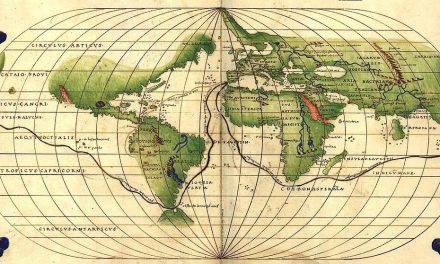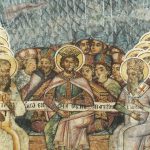Джованни Куччи SJ — Бетти Веттукаллумпурату Варгезе
Представьте, что родитель решил вручить маленькому ребенку ключи от Феррари. Не говоря уже о стоимости подарка, трудно вообразить, что разумному взрослому вообще придет в голову настолько безответственная мысль. Однако опасности, подстерегающие ребенка, когда ему дают смартфон, не менее серьезны, хотя не так бросаются в глаза.
Об этом хорошо знают проектировщики и производители: создатели социальных сетей, айфонов и смартфонов и руководители платформ Кремниевой долины (eBay, Google, Apple, Yahoo, Facebook (признан в РФ экстремистской организацией), Hewlett-Packard и т. д.) единодушно накладывают жесткие ограничения на своих детей, даже если это усложнит им жизнь или сделает белыми воронами среди сверстников. Вывод напрашивается только один: соцсети не для детей.
Джарон Ланье, автор стартапов, купленных компаниями Google, Adobe и Oracle, подхватывает новаторские размышления Николаса Карра и формулирует 10 причин обходиться без соцсетей (не без интернета или смартфона), поскольку они манипулируют вниманием и поведением и токсичны для пользователей: мешают вести жизнь более умиротворенную и доставляющую удовлетворение[1].
Стив Джобс запретил своим дочерям пользоваться айфоном и айпадом; так же поступил его преемник в руководстве Эплом Тим Кук со своими внуками. Билл Гейтс не только назначил для своих детей минимальный возраст (14 лет), но и позволил им пользоваться мобильным телефоном (не соцсетями) не дольше определенного отрезка времени в день (30 минут). Крис Андерсон, бывший директор Wired, а ныне генеральный директор 3D Robotics, установил непререкаемую границу: 16 лет — причем торг неуместен, пусть хоть «фашистом» назовут. Так же поступил Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet и Google. Сатья Наделла, генеральный директор Майкрософта, дотошно контролирует электронные устройства своих детей; Сьюзен Воджицки, бывшая генеральный директор Ютуба, позволила детям пользоваться этой платформой только по достижении возраста, позволяющего вести автономную социальную жизнь. Сооснователь компаний Twitter, Blogger и Medium Эван Уильямс предпочитает дарить детям книги, а не телефоны.
Кроме того, большинство из них позволяют пользоваться компьютером исключительно с учебными целями: никаких мониторов в спальне, и за обеденным столом все непременно выключают электронику, чтобы побеседовать. В школах, посещаемых этими детьми, не предусмотрены цифровые средства обучения, только самые классические: бумага, ручка, доска и мел. И, разумеется, никаких планшетов или электронных книг, только классическая бумажная книга — кстати, в США она все более востребована университетскими студентами, претендующими на качественное образование[2].
Впечатляет это единодушие столь разных людей по вопросу о здоровом пользовании электронными устройствами. Очевидно, что создатели сети знают о ее угрозах, особенно для самых юных. А исследования, проведенные в этой области, уверенно подтверждают их правоту.
Опасность соцсетей для психического здоровья ясно продемонстрирована в документальном фильме Социальная дилемма, представленном 26 января 2020 года на кинофестивале Сандэнс. Главное достоинство ленты — многочисленные интервью с теми, кто в свое время работал в международных проектах Кремниевой долины, а потом ушел (Frederik Bolayons, Mia Kalifa, Alfred Nzani, Snoop Dog, Shoshana Zuboff, Travis Scott, Jaron Lanier, Anna Lembke и Sophia Hammons). Также и в этом случае, при всем разнообразии должностей и исходных условий, бросается в глаза общая тревога: говорят о реальной невидимой олигархии, способной подспудно влиять на общее мнение, пользуясь отсутствием юридического регулирования[3].
Кто углублялся в эту проблематику, называют еще один тревожный аспект, все более заметный среди очень юных: связь между использованием соцсетей и психической уязвимостью. Психолог Джонатан Хайдт получил награду Goodreads Choice Award 2024 в категории нон-фикшн за исследование с характерным названием Тревожное поколение. Речь идет о так называемом «поколении Z»: о тех, кто родился с 1995 по 2005 год и с самого раннего возраста имел доступ к соцсетям.
То, что еще несколько лет назад могло показаться заурядным алармизмом «апокалиптиков», хулителей нового, в адрес «интегрированных» (если воспользоваться знаменитым биномом от Умберто Эко), сегодня стало печальным фактом: пользование соцсетями влечет за собой значительное ухудшение психического здоровья, особенно среди детей и подростков.
Самые весомые последствия
Уже замечено, что интернет способствовал распространению порнографии, что исказило взгляд на сексуальность и в частности на женщину[4]. Хайдт исследовал явление, по видимости более невинное — социальные сети. При всей пестроте у них есть общие базовые характеристики. Прежде всего — возможность создать личный профиль (включает тексты, изображения, музыку, видео), обозримый для других и модифицируемый обладателем по его усмотрению. Общение и взаимодействие с другими пользователями, необязательно выбранными автором профиля, и размещение комментариев, оценок и реакций могут занимать время, потенциально бесконечное, и принимать сомнительные формы (ложная, выдуманная идентичность, склонность к обману и самообману и т. д.).
Хайдт выделяет четыре особо вредных следствия постоянного пользования соцсетями.
1) Социальная депривация. Ребенку для здорового развития нужно играть на открытом воздухе с ровесниками. Показатели досуговой активности вне дома резко падают после 2013 года (без значительных отличий в период самоизоляции из-за COVID-19), и в то же время проявляются столь заметные трудности в общении и развитии, что возникает предположение о связи между психическим неблагополучием и пользованием соцсетями: «Дети из поколения iGen [= айфонного] растут медленнее: сегодняшние восемнадцатилетние ведут себя как пятнадцатилетние в прежних поколениях, тринадцатилетние — как десятилетние. Физическая форма современных подростков хороша как никогда, но в плане психического здоровья они гораздо уязвимее»[5].
Даже когда дети выходят из дома, их внимание и способность к взаимодействию отвлечены на оповещения и реакции, постоянно поступающие из соцсетей и мешающие реальному переключению. Поэтому дети изолированы, даже когда они вместе: «Дружба у нас поверхностная, — признается канадский студент, — и отношения поверхностные, бесполезные. Часто я прихожу на лекцию пораньше — а в аудитории тридцать и более студентов, и тишина гробовая, все в своих смартфонах […]. От этого изоляция только усиливается, и ослабляется самоощущение и самоуважение. Я это знаю, потому что испытал на себе»[6].
2) Депривация сна. Вопреки тому, что сказала Джин Твендж в вышеприведенном отрывке, физическое здоровье тоже страдает. Свечение экрана, чья площадь увеличивается в последних моделях, может ухудшить, в том числе серьезно, настроение и зрение, особенно если пользоваться устройством ночью. Таким образом опрокидываются суточные ритмы (экранный свет сигнализирует мозгу, что сейчас пора бодрствовать), что ухудшает сон и концентрацию (отсюда падение школьной успеваемости) и способствует преждевременной катаракте и макулопатии. Для детей риск особенно велик, потому что их глаза вбирают больше света, чем у взрослого. Недостаток сна влияет и на душевное здоровье и влечет за собой тяжелые психологические последствия, такие как дефицит внимания и концентрации, низкая самооценка, тревожность, раздражительность, депрессия, суицидальные наклонности. Для сравнения: было отмечено, что если отключить всю электронную аппаратуру после девяти часов вечера, это идет на пользу сну, повышается интеллектуальная эффективность. К таким выводам привела серия из 36 исследований на тему связи между пользованием соцсетями и психическим нездоровьем[7].
3) Фрагментация внимания. Привычка к многозадачности делает хрупкой и прерывистой нашу способность к сосредоточению, особенно когда нужно выполнять сложные и неблагодарные задачи. Словно запас внимания делится на части, их все больше, и они все мельче, и возникает устойчивое ощущение, что мы где-то не тут: это легко понять, когда, например, говоришь по телефону, а собеседник занят чем-то другим. Выполнять много задач одновременно не значит работать эффективнее, а значит хуже делать много дел.
Как ни странно, многозадачникам труднее переходить от одного вида деятельности к другому, хотя, казалось бы, это их конек, причем не выигрывают другие способности, особенно к запоминанию, требующему собранности, сосредоточенности, неторопливости и отсутствия отвлекающих факторов: «Дети, проводящие более двух часов в день перед экраном, демонстрируют худшие показатели в тестах на эмоциональную чуткость и интеллектуальное понимание. Самое тревожное: в ходе различных исследований обнаружилось, что у детей, проводящих много времени перед экраном, мозг — другой. У некоторых преждевременно истончается кора. Еще одно исследование выявило связь между временем перед экраном и депрессией»[8]. Отсюда и скачок синдрома дефицита внимания (ADHD) — в последнее десятилетие настоящая эпидемия в англосаксонском мире[9].
Несмотря на это, многозадачность расползается по всем возрастам, с тяжкими последствиями для учебы и работы. В открытом письме в корпорацию Apple от 6 января 2018 года JANA Partners LLC (компания, инвестирующая в события) и California State Teachers’ Retirement System (правительственное учреждение, предоставляющее пенсионное обеспечение калифорнийским преподавателям), вложившие около двух миллиардов долларов в акции Apple, приводят данные исследования, организованного Центром СМИ и здоровья детей и Университетом Альберты, с участием 2 300 преподавателей средней и высшей школы. Отмечено, что в течение 3–5 лет пользования цифровыми технологиями на уроках большинство преподавателей (67 %) обеспокоены растущей неспособностью учащихся (75 %) успешно выполнять поставленную задачу. 90 % преподавателей наблюдают у учащихся постоянный рост (86 %) проблем, связанных с управлением эмоциями, из-за использования многочисленных окон, предлагаемых соцсетями. Авторы письма также ссылаются на эссе Твендж об усилении депрессии и суицидальных рисков (35 %) у тех, кто проводит в среднем три часа в день с электронными устройствами, по сравнению с теми, кто проводит час. Когда средняя продолжительность составляет пять часов, процентная доля поднимается до 71. Плюс тяжкий ущерб здоровью: бессонница, ожирение, сколиоз и диабет[10].
4) Зависимость. В 2009 году Фейсбук ввел возможность оставлять комментарии (лайки), и очень скоро его примеру последовали другие соцсети. Эта инновация восходит к исследованиям Рене Жирара о тенденции к подражанию у людей, которая обычно проявляется трояко: субъект желающий, объект желаемый и посредник, модель, через которую объект представлен, как в зеркале, и она вызывает желание подражать или противопоставить себя ей. Согласно Жирару, человеческое действие почти всегда коренится в желании подражать, и это желание индуцировано другими. Мы это увидели со всей ясностью именно при введении лайков, которое запустило «стадный эффект», тенденцию размещать комментарии, позитивные или негативные, потому что так поступили другие. В этом смысле Жирара назвали «крестным отцом лайков»; его теорию подхватил и применил к соцсетям один из его учеников, Питер Тиль, предвидевший, что такие платформы, как Фейсбук, скоро достигнут большого успеха именно благодаря подражательному желанию на что-то посмотреть просто потому, что смотрят другие[11].
Но подражательный механизм также порождает агрессивность и зависть к другому, усиливая разрушительные следствия, которым легче реализоваться благодаря анонимности, невидимости и отсутствию тормозов, что присуще соцсетям и отличает их от отношений лицом к лицу в оффлайновой жизни.
Насколько деструктивными могут быть последствия тяги к подражанию, показывает череда самоубийств, связанных с сайтом Ask.fm — сокращение от Ask for me; сайт был создан в Литве в 2010 году по образцу американского Formspring, взяли за основу свободную ассоциацию вопросов и ответов, полностью анонимных[12].
Ask.fm — только пример, один из тысяч сайтов, кишащих в сети и посещаемых с излишней легкостью детьми и подростками, входящими без помощи и защиты в мир, для них слишком большой и сложный, где они не могут ответственно распоряжаться, поскольку еще находятся в том возрасте, когда действуют не подумав, побуждаемые эмоцией или сиюминутными обстоятельствами. Эмоции управляют человеком на этапе развития гораздо интенсивнее, чем во взрослом возрасте, а это, при отсутствии адекватных границ и способностей к самоконтролю — функций, присущих зрелой префронтальной коре, — повышает уязвимость перед лавиной посланий и комментариев, которая обрушивается на экран телефона.
Жизнь, посвященная экрану
Сегодня почти все приложения содержат разнообразные уловки, имеющие целью захватить внимание и пробудить любопытство пользователя, чтобы максимально продлить время, уделяемое навигации, и заработать на обработке данных и на рекламе. Легко представить, как это все влияет на того, у кого меньше силы воли, — например, на детей (большинство пользуются смартфоном уже в 5–6 лет). С другой стороны, сами дети нередко жалуются, что им трудно оторвать взгляд от экрана, что-то их принуждает посвящать ему все больше времени, и это для них настоящее бедствие.
Ребенок с 8 до 12 лет проводит перед экраном (смартфона, планшета, игровой приставки, телевизора и компьютера) около 4–6 часов в день; подросток (13–18 лет) до 9 часов, что превышает продолжительность полного рабочего дня. Также надо отметить, что цифра эта выше у населения с низким доходом: аналогичная пропорция наблюдается в отношениях с едой. В итоге картина выглядит так, словно едешь по шоссе, полному заманчивых уклонений, со всевозможными предложениями, возбуждающими любопытство и желание не упустить «шанс»[13].
Нир Эяль, годами работавший в рекламе и проектировании видеоигр, назвал эту технологию «на крючке» (Hooked). Заманивая клиентов, предлагают им серию возможных развлечений, более или менее приятных: уведомление, новость, комментарий на твой пост — все эти «крючки» особенно привлекательны для юных. Так большая часть дневного (и ночного) времени уходит на навигацию по сети. Хотя не все попадают в настоящую зависимость, речь идет об опасной форме манипуляции волей и согласием несовершеннолетнего[14].
Разоблачительница Фрэнсис Хоген, работавшая в одном из отделов Фейсбука (Civic Integrity Department), в 2021 году опубликовала тысячи документов, доказывающих, что Фейсбук использует технологию Hooked, склоняя детей и подростков выбрать Инстаграм (признан в РФ экстремистской организацией) (купленный в 2012 году Фейсбуком за миллиард долларов). Кроме того, после исследования, проведенного газетой Wall Street Journal, Фейсбук решил приостановить проект «Детский Инстаграм», предназначенный для детей от 4 до 12 лет[15].
Зависимость от смартфона не менее разрушительна, чем прочие типы зависимости; она также демонстрирует симптомы, характерные для абстиненции (тревога, раздражительность, бессонница, печаль). Анна Лембке, сотрудница Стэнфордского университета, в исследовании о новых зависимостях у подростков отмечает: «Смартфон — современная игла для сетевого поколения, она вводит цифровой допамин двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю»[16].
Так это преступление? Того, кто производит и продает наркотики, судят и сажают в тюрьму. А создатели соцсетей сознательно и исключительно ради выгоды выпускают приложения, порождающие зависимость, — и продолжают свою деятельность без препятствий и контроля со стороны властей. Только когда новости о происшествиях становятся общим достоянием, принимается решение вмешаться, как случилось в 2018 году в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica.
Проблема, как можно догадаться, не только воспитательная, но и политическая. Часто, увы, в этой обширной картине «великий отсутствующий» — именно государство. Мы это наблюдали, когда расследовалось дело Cambridge Analytica: самое опасное было не в том, что Фейсбук открыл доступ к данным своих пользователей для влияния на выборы, а в том, что политическая власть вообще не представляла, как работают компании — создатели социальных сетей.
Рост заболеваемости душевными расстройствами в поколении «iGen»
Самая неотложная проблема — остановить рост психологического неблагополучия среди самых юных. Установленный факт: в США коэффициент душевной заболеваемости в «поколении Z» резко и внезапно повышается, начиная с десятых годов нынешнего века. С 2012 по 2021 год доля подростков (12–17 лет), получающих лечение по поводу тревоги и депрессии, выросла на 161 % среди мальчиков и на 145 % среди девочек, по сравнению с данными до 2010 года; коэффициент членовредительства (такого, как порезы и попытки самоубийства) увеличился на 200 %. Очень похожие тенденции наблюдаются и в других странах. Любопытно — или тревожно, — что этот рост не затронул предыдущие поколения[17].
Обычно полагают, что пользование соцсетями помогает завязывать отношения на расстоянии, но это — преимущество для тех, кто общается с сетевыми знакомыми также и в реальной жизни. Кроме того, исследования никогда не подтверждают, что соцсети полезны для психического здоровья самых юных. Так обстоят дела с 2012 года, когда начали распространяться Инстаграм, Snapchat и Тик-Ток.
Последствия замкнутости и ухода из общества тяжелы не только с психиатрической точки зрения: растут трудности со вступлением во взрослую фазу жизни, акцентируются черты «песочного человека», отмеченные социологом Кэтрин Тернинк: снова и снова не получается установить прочные отношения, принять твердое жизненное решение и взять на себя ответственность за жизнь других[18]. Эта удручающая проблематика ставит под вопрос будущее целых поколений, и на нее уже невозможно закрывать глаза.
Чем помочь горю?
Заключения исследователей приходят большей частью из-за океана[19], но тем-то они и полезны: очерчивают возможный тренд и дают понять, сколько осталось времени на вмешательство, прежде чем и у нас растущему числу юношей и девушек потребуется психиатрическая помощь. Опять-таки не надо ничего изобретать, только пойти дальше поверхностного взгляда и стереотипов: «Технология — по определению человеческий продукт, и, как все человеческие продукты, ее можно и нужно обсуждать»[20]. Признать серьезность и сложность проблемы, подумать о своевременных вмешательствах для сокращения нынешних бед и предотвращения будущих — вот необходимая предпосылка для того, чтобы понять, как действовать.
Прежде всего, следует оценить, в каком возрасте уместно позволить ребенку пользоваться смартфоном. Конечно, от родителей это потребует изнурительного сопротивления настойчивым просьбам детей (все более младшего возраста) и классическим аргументам, обычно предъявляемым («У всех есть, только у меня нет, со мной дружить не будут, меня задразнят…»). Но в этих случаях выручит именно интернет: можно создать список (mail list) родителей, объединенных общей воспитательной целью — сберечь психическое здоровье детей, — можно также получить помощь от компетентных экспертов[21].
Как мы увидели, работники цифрового пространства единодушны в своем мнении: необходимо защищать детство, установить минимальную границу возраста и ежедневного времени для доступа к соцсетям (то есть для того, чтобы подписать договор и открыть профиль, размещать в сети видео, фотографии или аудиозаписи), ради сбережения душевного здоровья пользователей. Хоть и трудно провести единую границу для всех, представляется, что самый уязвимый возраст — до 11–13 лет для девочек и до 14–15 для мальчиков[22]. На основе этих данных в 2024 году Австралия запретила пользоваться соцсетями детям до 16 лет. Удивительно, но это решение одобрили молодежь и дети в Италии: 29 % в возрастной группе 10–15 лет и 49 % в группе 19–24[23]. Вот красноречивое указание на то, что и сами юные пользователи не в восторге от соцсетей.
Еще одним помощником может стать школа. Уже в 2023 году ЮНЕСКО потребовала не разрешать использование смартфонов в школах во избежание рассеивания внимания и кибербуллинга. К этому сигналу серьезно отнеслись многие школы и запретили пользоваться мобильными телефонами во время урока (например, можно складывать их в шкафчик). Эти школы проводят специальные курсы, обучающие правильно пользоваться соцсетями, и указывают на риски для душевного здоровья. Как и в случае с порнографией, рассуждать об обаянии соцсетей — фундаментальная воспитательная задача, упражнение в критическом мышлении.
Столь же важны занятия на открытом воздухе, например спортивные соревнования, но прежде всего свободная игра и посещение волонтерских ассоциаций. Как было замечено, депрессия — это болезнь, присущая цивилизации. Заниматься спортом на воздухе, поддерживать отношения в реальном мире, остерегаться навязчивых мыслей, спать по меньшей мере восемь часов ночью и придерживаться диеты, богатой кислотами омега-3, — вот что хорошо помогает справляться с тревогой или предотвращать ее[24]. Время, сэкономленное на соцсетях, можно использовать более здоровым образом: больше отдыхать и общаться с товарищами. Это противовес социальной изоляции и индивидуализму, которые служат плодородной почвой для психологических расстройств. Хорошо известно о фундаментальной роли обрядов перехода: они помогают юноше или девушке ответственно взаимодействовать с реальностью, веря в свои силы[25].
И политические власти непременно должны внести свой вклад: необходимы меры по защите частной жизни граждан и сопротивление лоббированию соцсетей и тем, кому выгодно их финансировать за счет здоровья потребителей. Мы уже привели в пример Австралию. Великобритания тоже давно движется в этом направлении. С принятием «Детского кода» (Age appropriate design code) в 2020 году[26] ряд цифровых платформ, например Тик-Ток, под угрозой закрытия были вынуждены поставить надлежащие фильтры для обеспечения приватности, чтобы с несовершеннолетними не контактировали незнакомые люди. Фейсбук, в свою очередь, вынужден был пересмотреть рекламную политику в отношении несовершеннолетних, а платформа Инстаграм в 2023 году дала возможность скрывать число лайков к контенту, размещенному пользователями, чтобы воспрепятствовать «стадному эффекту».
Период самоизоляции подтвердил, что жизнь в сети не альтернатива физической жизни. Пора принять это к сведению и переломить тренд.
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Ср. J. Lanier, Dieci ragioni per cancellare subito i tuoi account social, Milano, il Saggiatore, 2018; N. Carr, Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello, Milano, Raffaello Cortina, 2010.
[2] Ср. N. Bilton, Steve Jobs Was a Low-Tech Parent, в New York Times, 10 сентября 2014 г.; M. Richtel, A Silicon Valley School That Doesn’t Compute, в New York Times, 22 октября 2011 г.; P. Benanti, Il crollo di Babele. Che fare dopo la fine del sogno di Internet?, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2024, 132 сл.; G. Cucci, Internet e cultura. Nuove opportunità e nuove insidie, Milano, Àncora – La Civiltà Cattolica, 2016, 99 сл.
[3] Как отмечает один из героев фильма, Тристан Харрис, бывший «менеджер по этике» в Гугле и сооснователь Центра гуманной технологии: «Решения кучки разработчиков, главным образом белых мужчин от 25 до 35 лет, живущих в Сан-Франциско и работающих на трех предприятиях, Google, Apple и Facebook, оказывают невиданное в истории влияние на то, как миллионы людей во всем мире распределяют внимание» (цитата из B. Bosker, The Binge Breaker, в The Atlantic, ноябрь 2016 г.). Ср. S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Roma, Luiss, 2023.
[4] Ср. G. Cucci, Relazioni. Tra Covid e digitale, Milano, Àncora, 2023, 137–179.
[5] J. M. Twenge, Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi crescono meno ribelli, più tolleranti, meno felici e del tutto impreparati a diventare adulti, Torino, Einaudi, 2018, 6. Ср. V. Kannan — P. Veazie, US trends in social isolation, social engagement, and companionship — nationally and by age, sex, race/ethnicity, family income, and work hours, 2003—2020, в SSM Population Health 21 (2023) 101331.
[6] Процитировано здесь: J. Haidt, La generazione ansiosa. Come i social hanno rovinato i nostri figli, Milano, Rizzoli, 2024, 150.
[7] Ср. S. Garbarino et Al., Role of sleep deprivation in immune-related disease risk and outcomes, в Communications Biology 18 (2021) 1304; R. Alonzo et Al., Interplay between social media use, sleep quality, and mental health in youth: A systematic review, в Sleep Medicine Reviews, апрель 2021 г.
[8] A. Carciofi, Vivere il metaverso. Vita, lavoro e relazioni: come trovare benessere ed equilibrio nel futuro di Internet, Macerata, Roi, 2022, 152.
[9] Ср. J. Hari, L’attenzione rubata. Perché facciamo fatica a concentrarci, Milano, La nave di Teseo, 2023, 357–396.
[10] Ср. J. Twenge, Iperconnessi…, цит., 132–169; A. Sheeman (ed.), Letter from JANA Partners & CalSTRS to Apple Inc., в California State Teachers’ Retiremert System (https://thinkdifferentlyaboutkids.com/index.php?acc=1), 19 января 2018 г.,
[11] Ср. P. Benanti, Il crollo di Babele…, цит., 165–170; R. Girard, Menzogna romantica e verità romanzesca. Le mediazioni del desiderio nella letteratura e nella vita, Milano, Bompiani, 2009; P. Thiel — B. Masters, Da zero a uno. I segreti delle startup, ovvero come si costruisce il futuro, Milano, Rizzoli, 2015.
[12] Ср. G. Cucci, Internet e cultura…, цит., 88–91.
[13] Ср. Screen Time and Children, www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Children-And-Watching-TV-054/; The Common Sense Census: Media Use by Kids Age Zero to Eight, www.commonsensemedia.org/sites/default/files/research/report/2020_zero_to_eight_census_final_web.pdf/; Screen time report 2022, www.uswitch.com/mobiles/screentime-report/. Ср. J. Haidt La generazione ansiosa…, цит., 145 сл.
[14] Сам Эяль, в книге Создавать товары и услуги, чтобы ловить клиентов (На крючке), посвятил параграф манипулятивному потенциалу стратегии Hooked. В другой книге (Как не отвлекаться) он признается, что сам попадал в отвлекающие ловушки, и выдвигает предложения, как распознать причины и остановить эрозию внимания.
[15] Ср. G. Wells — J. Horwitz — D. Seetharaman, Facebook Knows Instagram Is Toxic for Teen Girls, Company Documents Show, в The Wall Street Journal, 14 сентября 2021 г.; F. Haugen, Il dovere di scegliere. La mia battaglia per la verità contro Facebook, Milano, Garzanti, 2023.
[16] A. Lembke, L’era della dopamina. Come mantenere l’equilibrio nella società del «tutto e subito», Macerata, Roi, 2022, 1.
[17] Ср. M. Askari et Al., Structure and trends of externalizing and internalizing psychiatric symptoms and gender differences among adolescents in the US from 1991 to 2018, в Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 57 (2022/4) 737–748; J. Twenge et Al., Worldwide increases in adolescent loneliness, в Journal of Adolescence 93 (2021) 257–269. И вообще таких исследований много, ср. J. Haidt, La generazione ansiosa…, цит., 32–56.
[18] «Уже несколько десятилетий мы наблюдаем молодежь, которая топчется на обочинах взрослой жизни, а войти не решается. Жертвы тревоги, они не могут переступить порог» (C. Ternynck, L’uomo di sabbia. Individualismo e perdita di sé, Milano, Vita e Pensiero, 2011, 127).
[19] Что касается Италии, данные, хотя и менее вопиющие, демонстрируют ту же тенденцию: 27 % молодых (от 10 до 24 лет) ограничиваются виртуальными отношениями; 49,3 % признают сильное влияние соцсетей, с большой разницей между девушками (65 %) и юношами (31 %). 34,2 % испытывают грусть или неудовлетворенность после навигации по сети; 90 % в возрастной группе 19–24 отмечают рост неспособности общаться в оффлайновой жизни, поскольку слишком много времени проводят в соцсетях (ср. Il Sole 24 Ore Scuola, 29 ноября 2024 г.).
[20] J. C. De Martin, Contro lo smartphone. Per una tecnologia più democratica, Torino, Add, 2023, 179.
[21] Очень поучительна в этом отношении книга С. Гарассини «Смартфон. 10 причин не дарить его на первое причастие (и даже на конфирмацию)», S. Garassini, Smartphone. 10 ragioni per non regalarlo alla prima Comunione (e magari neanche alla Cresima), Milano, Ares, 2019.
[22] Ср. A. Orben et Al., Windows of developmental sensitivity to social media, в Nature Communication, 28 марта 2022 г.; J. Haidt, La generazione ansiosa…, цит., 282 сл.
[23] Ср. L’Australia vieta i social agli under 16, in Italia la metà dei giovani sarebbe d’accordo, ecco perché, в Il Sole 24 Ore Scuola, 29 ноября 2024 г.
[24] Ср. J. Twenge, Iperconnessi…, цит., 352 сл.; S. Sassaroli — R. Lorenzini — G. Ruggiero (edd.), Psicoterapia cognitiva dell’ansia. Rimuginio, controllo ed evitamento, Milano, Raffaello Cortina, 2006.
[25] Ср. G. Cucci, Il suicidio giovanile. Una drammatica realtà del nostro tempo, в Civ. Catt. 2011 II 121–134.
[26] «Код уточняет, что онлайн-сервисы, когда ими пользуется ребенок, должны применять повышенные установки приватности по умолчанию, а тем более если на то есть настоятельная причина, в интересах ребенка. Это значит, что не дозволены предоставление другим пользователям доступа к данным, отслеживание местоположения или поведенческое профилирование (например… целевая реклама или использование данных “таким образом, который стимулирует детей оставаться вовлеченными”)» (ICO’s ‘Children’s Code’ applies from today — what you need to know, в Eversheds Sutherland. Retrieved, 2 сентября 2021 г.).