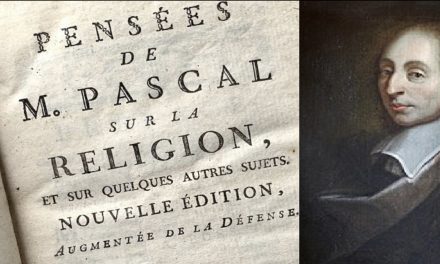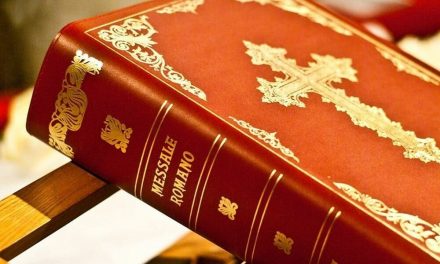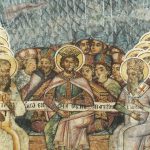Бенуа Вермандер SJ
Энциклика Папы Франциска Dilexit nos (DN) представляет почитание Сердца Иисусова, помещая его в прекрасное вводное размышление о богатстве термина «сердце» в разных языках и культурах. Доминируют, естественно, отсылки к греческому и Библии. Франциск настаивает на факте, что «сердце» в них обозначает центр, глубину бытия, а также пространство, где мысли и чувства соединяются таким образом, что личность — душа и тело — становится целостным существом (см. DN 3). Сегодня бесстрашно использовать слово «сердце» означает привлекать внимание всех и каждого к сокрытой глубине, к нашему сокровенному, за гранью так называемых «ясных и четких идей», например, воли, свободы, разума (ср. DN 9–10).
Мы предлагаем обогатить фундаментальные предпосылки, на которых строится энциклика Франциска, представив другую традицию, ученые которой очень много размышляли о сердце и много о нем говорили: китайские сочинения, предшествующие закату Ранней (Западной) династии Хань, что более или менее совпадает с началом христианской эры[1]. С V по I век до н. э. тема сердца пронизывает все сферы китайской мысли: концепцию человеческой личности и ее отношения с Небом, этику, политику, медицину и пр. Наконец, от автора к автору отмечаются разные акценты: тема сердца настолько богата, что принимает самую разную окраску, в соответствии с системами, в которые она включена.
Как психическая, так и физиологическая реальность
Иероглиф синь — один из тех, о котором любят дискутировать синологи. По мнению некоторых, его не стоит переводить просто как «сердце», поскольку тем самым на него проецируются западные образы, например, эмоциональность, чувства и т. д., хотя как орган сердце в Древнем Китае воспринимается в качестве пространства для принятия решения, поскольку речь идет о «повелителе тела». «Синь занимает в физическом строении положение наивысшего владыки», — сказано в Первом трактате об искусстве сердца, включенном в Хуайнань-цзы (энциклопедический труд, составленный во времена ранней династии Хань, хотя включенные в него источники древнее). Значит, следует переводить синь как «сознание» (mind).
Это следует признать для буддистских текстов (появившихся после периода, о котором мы здесь говорим), сообщающих китайским иероглифам технический смысл, адаптированный к индийским понятиям, которые они переводят. Тем не менее следует подчеркнуть, в Древнем Китае синь обозначает, в первую очередь, физический орган — сердце. Его пиктограмма представляет суммарно кардиологический орган с очевидными перикардом и аортой. Речь идет об одном из пяти главных органов, наряду с печенью, селезенкой, легкими и почками. Безусловно, сердце также пространство мыслительной деятельности. Но перевод термином «дух» необоснованно затемняет его физиологическую основу. Тем самым скрывается и психологическая, и «ментальная» роль органа-сердца в совокупности тела: роль, на которой настаивает вся китайская медицина. Перевод как «сердце-сознание» (heart-mind), очень распространенный в англосаксонской среде, точнее. Можно равным образом полагаться на переводы, отдающие должное коннотациям «совести». В действительности при внесении необходимых уточнений сохранение просто термина «сердце» не представляет собой настоящих неудобств. Тем более что немалая часть западных текстов, как хорошо демонстрирует Dilexit nos, также подразумевают под сердцем пространство мысли и эмоций — пространство, где первое и второе рассматриваются с перспективы их корня, без какого бы ни было разобщения.
В следующем сочинении перевод «сердце-сознание» привел бы к утрате удивительно прямого характера термина синь: «Мэнцзы сказал: “Сострадание — сердце [синь] человека; прямолинейность — его путь. Оставить этот путь, не следуя более по нему, потеряв свое сердце и не зная, где искать его, — какое несчастье! Потерявший собаку или кур хотя бы знает, где их найти. Потерявший же сердце даже не знает, где искать. Не остается ничего иного, как научиться этому: искать потерянное сердце. Это все”» (Мэнцзы, 6 А 11).
Для Мэнцзы сердце — компас, решающий для распознания орган. Вписано ли оно в воплощение Я, «шэнь, то есть тело, эго»? Ряд китайских авторов различают и другой организм, дух/духи (шэнь, иероглиф, омонимичный предыдущему, но графически отличный)[2]. В китайском термине «дух/духи» можно встретить идею, очень похожую на мысль Игнатия Лойолы в Духовных упражнениях: большинство цивилизаций (возможно, все) стремятся к труднодостижимой реальности как извне, так и изнутри человека, т. е. множественная и одновременная единая реальность — добрый и злой дух, добрые и злые духи — нечто, что пронизывает нас и то, чем мы не управляем[3]. Начертание иероглифа «дух» (шэнь) в китайском напоминает непрерывно распространяющееся движение, направленное и вниз, и вверх. В человеке духи должны мало-помалу очищаться, утончаться; мы должны заставить их приближаться к их сущности, как сказано в седьмой главе Хуайнань-цзы[4].
Сердце, дыхание, Небеса
В отличие от термина «духи», довольно двойственного и не используемого всеми авторами, во всех древних китайских сочинениях сердце (синь) — именно то, что присуще человеческой личности. В конце концов начинающий исследование глубины сердца понимает, что принадлежит к виду, к солидарной жизни с существами, разделяющими друг с другом общие силы и общие ограничения, поскольку у человеческого существа есть «природа» (xing, природа-син), общая для всех. Признание солидарности в природе позволит нам узнать Небеса и служить им. Мэнцзы очень настойчиво утверждает это в каноническом тексте: «Идущий до предела собственного сердца познает его природу. Знающий его природу знает Небеса. Сохраняя сердце и питая тем самым природу, человек служит Небесам» (Мэнцзы, 7 А 1).
Итак, мы идем от индивида к виду, от вида — к началу, из которого происходят все виды. Сердце лежит в начале и сознания, и действия. Хранящий свое сердце, не рассеивающий свое сердце в импульсивных ослеплениях, тем самым естественным образом подчиняется воле Небес. Целостное сердце, обращенное к Небесам, все собирает, все соединяет: «То, что стремится в глубину, распространяясь безгранично, преодолевает восемь направлений, собирает все в единое следование, и есть сердце» (Хуайнань-цзы, 18, 1).
Но стремление к «пределу собственного сердца», к чему призывает нас Мэнцзы, предполагает его опустошение… С другой стороны, в китайском «дойти до конца» (инь) — идея, выраженная в иероглифе, изображающем кровь принесенного в жертву животного, перелитую до последней капли в предназначенного для этого реципиента. В третьей главе Дао дэ цзин — как замечает и Лаоцзы — есть интересное выражение: «Мудрые, дабы владеть собой, опустошали сердца, чтобы успокоить чрево». В своей двойственности текст, в первую очередь, предлагает политическое прочтение, из которого мы далее выведем следствия: несомненно, речь идет о наполнении чрева народа, но, «смягчая собственную волю и обуздывая собственные кости», продолжается в главе. В то же время выражение применимо к собственно мудрым — в конечном счете синтаксис, по-видимому, указывает на их сердце и их внутренности, — в этом случае текст описывает действие, посредством которого дыхание наполняет брюшную полость и с помощью повторения дыхательных упражнений освобождает сердце от любого желания.
Чжуанцзы настаивает в особенности на том, что он называет «говение сердца»: «Как движимый не только волей слушает не ухом, а через сердце. Не слушает сердцем, но дыханием. Слушание останавливается на ухе, сердце уделяет внимание знакам. И вот что такое дыхание: пустота, благодаря которой производятся жизненные проявления. Путь упорядочивает каждую реальность, пользуясь этой пустотой. Пустота — говение сердца» (Чжуанцзы, 4.2).
Слушать через дыхание означает опустошаться, а затем концентрироваться, чтобы снова стать пустым: все феномены, касающиеся тела, следует полностью принимать и интегрировать, чтобы после такой трансформации всецело отдавать их обратно. Проникшее в меня не возвращается в мир «таким, как есть», но трансформируется сообразно тому, каким я сам был в принятии, как я непрерывно меняюсь. «Говение сердца» состоит не в строгом соблюдении интерпретативных линий, то есть знаках и эмоциях, с которыми я усваиваю то, что желаю и вижу. Сердце может быть чревом для избытка получаемого, либо может согласиться полностью опустошаться, чтобы получить все заново. Лишь пустое и прозрачное сердце способно по-настоящему знать мир и себя самое: «Совершенный человек пользуется сердцем как зеркалом» (Чжуанцзы, 7.6).
Политическое сердце
«Необходимо, чтобы все действия подчинялись “политическому контролю” сердца», утверждается в DN 13. Читателю текстов Древнего Китая эта фраза напоминает именно начало Первого трактата об искусстве сердца, включенного в упомянутый выше труд Хуайнань-цзы: «Сердце занимает в теле положение владыки. Функции девяти дверей тела подобны разным обязанностям служащих. Когда сердце спокойно и остается на Пути, то девять дверей работают правильно. Если алчность и желание полностью охватят его, глаза не различат цвета, а уши не поймут звуки».
Спокойное сердце позволяет телу функционировать правильно. Когда оно возмущено, то не выполняет свою функцию, из этого вытекают физические и психические нарушения. В Китае сердце создано не для того, чтобы волноваться, но для того, чтобы в первую очередь оставаться стабильным: речь идет о «неизменности устойчивого сердца». Такая константа присуща именно доброте. Спокойствие утверждает, что «любовь отца подобна горе», и нет ничего более постоянного, устойчивого и непоколебимого, чем гора. В этом убеждена китайская медицина: того, чье сердце устойчиво, реже атакует болезнь, всегда вызываемая чрезмерными эмоциями, в том числе даже положительными.
Утверждение Хуайнань-цзы двоякое: если сердце подобно повелителю тела, значит, правитель подобен сердцу царства. «Правитель — сердце государства. […] Желтый император[5] сказал: “Широко, безгранично я сопровождаю Путь Небес и распространяю свое дыхание в единстве с Началом”». Итак, когда [правитель] на вершине добродетели, его слова совпадают с его замыслами, его действия — с его намерениями. Высший, низший, все — единое сердце! (Хуайнань-цзы, 10.2–3).
Размышление о сердце еще больше политизируется у Сюнцзы (III век до н. э.), автора, пессимистично настроенного по отношению к человеческой природе и к устойчивости социальных институтов. Согласно ему, сердце — судья среди разных страстей (quing), проявляющих наклонности в борьбе внутри человеческой природы (xing). «То, что при пробуждении эмоции сердце делает выбор, называется постановлением» (Сюнцзы, 22, 2).
Итак, Сюнцзы считает сердце, в первую очередь, способностью различать добрые и дурные наклонности, органы чувств постоянно задействуют дурные наклонности. Сердце же, владыка личности, отдает ему приказания, это пункт обязательного перехода от внутренней к внешней стороне нашего бытия. И практика обучения под руководством наставника прежде всего нацелена на контроль того, как сердце познает внешний мир, на то, чтобы научить реагировать надлежащим образом на импульсы, исходящие от этого мира. Изучение, равновесие сердца и при необходимости даже социальный контроль — все эти измерения отмечены манерностью, но вычурность — единственный способ организовать пригодный для жизни мир, сколь скоро наша природа подвержена страстям.
Вычурность Сюнцзы — исключение. В Древнем Китае сердце — пространство свободы; но чтобы войти в свободу, оно должно освободиться от всего, что ему препятствует. Никто не выразил это лучше Конфуция: «Учитель сказал: “В пятнадцать лет я приступил к учебе, в тридцать лет был независим, в сорок лет преодолел сомнения, в пятьдесят лет знал, что Небу угодно от меня, в шестьдесят лет мои уши естественным образом различали все, а теперь, в семьдесят лет, следование желанию моего сердца никогда не побуждает меня не знать меры”» (Analecta, 2.4).
Для старого Конфуция речь идет именно о «следовании желанию его сердца». Но теперь это желание побуждает к жизни, к реализации собственного существа и всех других существ, и только лишь к этому. Его жизненный порыв больше не смущает никакое смертное напряжение. Такова радость того, кто мало-помалу научился погружаться в самые сокровенные глубины своего сердца.
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Ранняя (Западная) династия Хань правила с 212 г. по 9 г. до н. э. После перерыва Поздняя (Восточная) династия Хань правила Китаем с 25 по 220 г. н. э.
[2] Cfr L. Raphais, A Tripartite Self, Mind, Body, and Spirit in Early China, Oxford, Oxford University Press, 2023. Естественно, китайская антропология намного богаче, чем указанные здесь отличия позволяют подумать. Например, необходимо также провести различие между духовными душами (хунь) и чувственными душами (по).
[3] Хорошее изложение эволюции этой концепции на протяжении истории предложено в D. Salin, Le Discernement des esprits selon Ignace de Loyola. Les aléas d’une transmission (XVIe-XXIe siècle), Paris — Bruxelles, Lessius, 2021, 33–53.
[4] Хуайнань-цзы — энциклопедический труд, представленный императорскому двору в 139 г. до н. э., следовательно, он был составлен ранее.
[5] Первый мифический правитель.