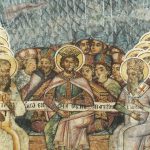Давид Нойхаус SJ
В 2025 году Церковь отмечает шестидесятилетие II Ватиканского Собора и декларации об отношениях с нехристианскими религиями Nostra aetate. Если до того времени считалось, что нехристиане погрязли в суеверии и невежестве, Nostra aetate дала начало иному направлению, поощрявшему постоянный диалог как составную часть католического свидетельства об истинности христианской веры. На содержание документа повлияла встреча немецкого иезуита Августина Беа, которого Папа назначил председателем Секретариата по содействию единству христиан, и Максима IV Сайега, мелькитского Патриарха Антиохии. Нынешний диалог между Католической Церковью и еврейским народом несет на себе отпечаток перспектив, ими разработанных в то время, когда Церковь начинала формулировать позицию, включающую и диалог с евреями, и осознание того, что палестинцы находятся в трагическом положении.
Истоки
Декларация Nostra aetate была написана после Шоа, то есть попытки, со стороны нацистской Германии, уничтожить евреев в Европе в ходе Второй мировой войны. После войны Церковь подошла к болезненному вопросу: насколько традиционное христианское отношение к еврейскому народу могло содействовать формированию современного антисемитизма? 28 октября 1958 года Анджело Ронкалли стал Папой Иоанном XXIII. Ронкалли провел предвоенные и военные годы в Болгарии, Греции, Турции и Франции, будучи дипломатическим представителем Святого Престола. Он хорошо знал о том, что происходит с евреями, и ему вменяют в заслугу спасение тысяч представителей этого народа.
Поначалу, планируя Собор, который изменит облик Церкви в современном мире, Папа не намеревался включать в повестку вопрос о еврейском народе. Идея выпустить документ о евреях пришла Папе на ум во время частной аудиенции 13 июня 1960 года. В тот день, вскоре после назначения Августина Беа председателем Секретариата по содействию единству христиан, Иоанн XXIII встретился с еврейско-французским историком и преподавателем Жюлем Исааком, и тот вручил Папе свой текст о презрении к еврейскому народу в христианском учении. Позже Исаак прокомментировал: «Не раз во время моей краткой речи он выказывал понимание и сочувствие. […] Спрашиваю, могу ли унести с собой немножко надежды. Он восклицает: “У тебя есть право на большее, чем надежда!”»[1]
Папа направил Исаака к Беа, ветхозаветному библеисту и своему доверенному советнику, и в сентябре 1960 года последний принял поручение подготовить документ о еврейском народе. Позже Беа написал, в согласии с мыслями Папы: «Двухтысячелетняя проблема — старая, как само христианство, — отношений Церкви с еврейским народом обострилась, а потому ее рассмотрел II Ватиканский Вселенский Собор, прежде всего в связи с чудовищным умерщвлением миллионов евреев нацистским режимом в Германии»[2]. Он предполагал, что документ не только осудит антисемитизм, но и привлечет внимание к еврейским корням Церкви и поможет наладить диалог между евреями и католиками.
Хотя дискуссии о евреях, последовавшие за встречей с Исааком, должны были оставаться конфиденциальными, Беа пообщался на эту тему с журналистом, а тот опубликовал новость о перемене отношения Церкви к евреям, что уже тогда вызвало первую отрицательную реакцию на Ближнем Востоке[3].
Реакции на Ближнем Востоке
Сопротивление документу о евреях проявилось в трех разных формах. Прежде всех выступили классические антисемиты, они возражают против какого бы то ни было смягчения в учении Церкви, потому что считают еврейский народ врагом человечества и христианской веры. К ним прибавились традиционалисты, в принципе отвергающие любую перемену в церковном учении. Наконец, нашлись и те, кто против сближения с евреями из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эта группа отметила, что в центре конфликта государство — Израиль, — определяющее себя как еврейское, и народ — палестинский, — который остался без родины, потому что в 1948 году было основано Государство Израиль, что стало трагедией, повергшей в хаос весь Ближней Восток. В некоторых случаях антисемитизм, сопротивление переменам и забота о справедливости и мире на Ближнем Востоке шли рука об руку.
В самом деле, в послесоборной историографии некоторые обвиняли Максима IV и ближневосточных епископов в антисемитизме или традиционализме из-за их противодействия формулированию документа о евреях[4]. Другие считали причиной оппозиции страх перед реакцией мусульман на положительное отношение к евреям: результатом могли стать гонения на христиан в арабских странах, воюющих с Израилем[5]. Со своей стороны, арабские страны и Израиль оказывали давление, чтобы дело решилось в их пользу, поддерживая контакт с теми участниками Собора, чьи политические взгляды отвечали их интересам.
Все эти факторы частично повлияли на позицию ближневосточных прелатов на Соборе; однако мнения Максима IV и их эволюция в ходе заседаний указывали на попытку содействовать выработке такой церковной позиции, которая учтет всю сложность положения. Внутри Церкви Максим IV (вместе со своими ближневосточными коллегами) и Беа (со своими европейскими и североамериканскими сотрудниками) вели конструктивный диалог, который преобразовал документ о евреях в Nostra aetate. Беа — ведущий сторонник новых отношений с еврейским народом, Максим IV — представитель тех, кто печется о Ближнем Востоке и палестинцах: встреча этих двух персонажей наложила отпечаток на еврейско-католический диалог последних шестидесяти лет.
Максим IV, назначенный членом Центральной подготовительной комиссии, которой Папа Иоанн XXIII поручил заложить основания для Собора в июне 1960 года, стал, несомненно, самой представительной фигурой среди соборных отцов из арабского мира[6]. Его отношение к еврейскому вопросу было продиктовано не только тем, что он сирийский араб и духовный руководитель греко-католической общины, включившей в себя палестинских греко-католиков, эвакуированных в 1948 году; он также озвучивал позицию католиков — не европейцев и не латинского обряда, которых должна услышать церковная верхушка, все еще в основном европейская и латинская. Максим IV отказался говорить по-латыни и ярко высказался по-французски, защищая права и интересы не только греко-католиков, но и неевропейцев вообще. В то же время он был сторонником реформ, имеющих целью привести Церковь в современный мир.
Что касается документа о евреях, Максим IV заявил в 1962 году в записке в центральную комиссию по организации Собора: «Мы очень хорошо понимаем, по каким причинам был предложен этот “декрет” [о евреях]. Долг Церкви по отношению к самой себе — признать славу, обетования и миссию еврейского народа. Такой же долг — изгнать из своей литургии, из мыслей и дел своих верных всякий намек на презрение, месть или расовую дискриминацию по отношению к еврейскому народу»[7]. Несмотря на это Максим IV настаивает: нужно проводить четкое различие между евреями и Государством Израиль; с последним «следует обращаться согласно тем же критериям, какими регулируются отношения между Церковью и гражданскими обществами, без всяких привилегий или особых соображений со стороны Церкви»[8]. Кроме того, он предлагает «подготовить аналогичный декрет применительно к исламу и другим монотеистическим религиям. Христиане, которые часто общаются с последователями этих религий, будут рады услышать от Церкви что-то положительное о них, а не только и не просто осуждение “ошибок”»[9]. В августе 1962 года греко-католический Синод опубликовал манифест, где было сказано, что вера во Христа требует от христиан не «питать ни ненависти, ни враждебности ни к кому»; однако «справедливость, человечность и патриотизм налагают обязанность быть рядом с братьями, палестинскими арабами, признавая их право вернуться на свою землю и землю предков»[10].
Столкновение между убеждением, превалирующим в Европе и Северной Америке: Церковь должна возглашать уважительное учение о еврейском народе, — и сопротивлением на Ближнем Востоке, где евреев ассоциируют с военной силой Государства Израиль и трагедией палестинцев, — представляет собой яркий пример глобализации Церкви. Католический богослов Карл Ранер утверждает, что II Ватиканский Собор стал «первым большим официальным событием, где Церковь проявила себя именно как Вселенская Церковь […]; Вселенская Церковь как таковая начинает действовать благодаря взаимному влиянию всех своих компонентов»[11].
Трудный диалог
Документ о евреях был представлен только на втором заседании Собора, в 1963 году[12]. 3 июня 1963 года умер Иоанн XXIII, и его проект был подтвержден преемником, Павлом VI. Однако стало ясно, что новый Понтифик шире смотрит на то, как надо понимать диалог в современном мире. В сентябре 1963 года, открывая второе заседание Собора, Павел VI заявил, что Церковь «устремляет взгляд за пределы христианских общин и видит другие религии, которые сохраняют понятие и знание о Едином Боге — Творце, Промыслителе, Верховном и превосходящем природу вещей; поклоняются Богу с искренним благочестием и выводят из этих обычаев и верований принципы нравственной и общественной жизни»[13]. Стремясь к диалогу, Папа отчасти руководствовался мнением выдающегося французского исламоведа Луи Массиньона, чье влияние на Собор, касательно отношения Церкви к мусульманам, можно сравнить с тем, как повлиял Исаак на ее отношение к еврейскому народу.
В ноябре 1963 года Беа представил документ о евреях как часть проекта об экуменизме. Уже зная о ближневосточных болезненных точках, он заверил Собор, что в тексте о еврейском народе нет никаких отсылок к национальному вопросу или к политике: «Речь не идет о национальном или политическом вопросе, и в особенности не о признании Государства Израиль со стороны Святого Престола. Ни один из этих вопросов никоим образом не рассмотрен и не затронут в проекте, но поставлен вопрос чисто религиозного порядка»[14]. Несмотря на это ближневосточные прелаты оказали сопротивление, беря слово на заседании, один за другим. Среди них был и Максим IV, и он заявил: «Если говорится о евреях, следует говорить и о других нехристианских религиях, и прежде всего о мусульманах: их 400 миллионов, и мы живем среди них как меньшинство»[15]. Позже Беа отметит: «Говорить и об исламе тоже требовали главным образом соборные отцы с Ближнего Востока. А другие, идя еще дальше, потребовали поставить вопрос максимально широко — включить все нехристианские религии»[16].
Новая перспектива
Второе заседание Собора завершилось сенсационным сообщением: Павел VI отправится на Святую Землю в январе 1964 года. Впервые Папа покинул пределы Италии за более чем 150 лет. Третье заседание Собора — с сентября по ноябрь 1964 года — прошло под сильным влиянием взглядов Павла VI на диалог с целым миром. В своей первой энциклике, Ecclesiam suam, изданной в августе 1964 года, Папа очерчивает концентрические круги человечества, с которыми Церковь призвана вступить в межрелигиозный диалог. Павел VI пишет: «Затем вокруг себя мы видим еще один круг, тоже огромный, но менее от нас далекий: прежде всего, это люди, что поклоняются Единому и Всевышнему Богу, Кому и мы поклоняемся; имеются в виду сыны еврейского народа, достойные нашего сердечного уважения, верные религии, которую мы называем ветхозаветной; затем — поклонники Бога согласно концепции монотеистической религии, особенно мусульманской, заслуживающие восхищения тем, что есть истинного и доброго в их поклонении Богу; далее — последователи великих афро-азиатских религий»[17].
Незадолго перед созывом третьего заседания II Ватиканского Собора греко-католический Синод направил ноту в соборную организационную комиссию касательно документа о евреях. В ноте сказано: «У нас нет никаких принципиальных возражений, в богословском плане, против этого черновика декларации. Но, с практической точки зрения, мы полагаем, что нужно добавить […] последний параграф следующего содержания: “Этот святой Собор находит важным подчеркнуть, что настоящая декларация — чисто религиозный документ, вдохновленный исключительно богословскими соображениями, — отнюдь не мотивирована политически и не имеет никакой политической цели. Этот святой Собор заранее осуждает любое тенденциозное толкование — попытку приписать настоящей декларации какой-либо политический смысл, в пользу или против кого бы то ни было”»[18]. Во время заседания греко-католический архиепископ Дамаска Джозеф Тавиль, тесно сотрудничавший с Максимом IV, заметил: не подобает Церкви, когда «ровно миллион арабов несправедливо и насильственно согнаны со своей земли», фокусироваться на еврейском вопросе[19]. Он подчеркнул, что «Церковь должна […] рассматривать иудаизм в духовном и религиозном контексте. Собор не должен вмешиваться в гражданские и политические вопросы»[20].
25 сентября 1964 года Беа снова взял слово на Соборе. Он сообщил, что документ о евреях «требуется прежде всего потому, что Церковь желает верно следовать примеру Христа и апостолов в любви к этому народу. Однако […] этими доводами, скорее внешними, нельзя пренебрегать»[21]. Хотя большая часть его речи была посвящена богословским вопросам, в частности применению термина «богоубийство» к еврейскому народу, Беа пояснил и прибавки к тексту, относящиеся к мусульманам. Документ, находящийся в процессе оформления, предполагалось издать в качестве отдельной декларации, уже не в составе соборной декларации об экуменизме. Кроме того Беа уточнил, что учтена позиция ближневосточных прелатов. Он пояснил, что вопрос о еврейском народе религиозный, а не политический: «Здесь мы не говорим ни о сионизме, ни о политическом Государстве Израиль, а о последователях Моисеевой религии, где бы в мире они ни находились. Нет намерения перегружать хвалами и почестями еврейский народ, превозносить его над другими народами и наделять привилегиями»[22]. Тем не менее Беа настаивает: вопрос настолько важен, «что мы готовы даже подвергнуться той опасности, что некоторые могут злоупотребить этой декларацией в политических целях. Ведь речь идет о нашем долге перед истиной и справедливостью»[23].
По завершении третьего заседания Максим IV опубликовал подробный отклик о работе Собора: «Католическая Церковь сегодня занимает диалогическую позицию: ведет диалог сама с собой, с другими Церквями, с миром, у которого много своих проблем, человеческих и социальных, диалог с каждым, кто по-своему ищет Бога. И этот диалог имеет целью укрепить человеческую солидарность и единство семьи Божией на пути к цели нашей жизни». Далее Максим IV прибавляет: «Арабские страны, с тех пор как сионизм оформился как государство в Палестине, умеют отличать иудаизм как религию от сионизма как политического движения. Они уважают первый и борются со вторым»[24]. В коммюнике от 31 декабря 1964 года Максим IV подтвердил: «Секретариат [по содействию единству христиан] и мировой епископат не могут игнорировать тот факт, что есть государство, называющее себя Израилем; что это государство считает себя воплощением еврейства; что сказанное об иудаизме как религии неизбежно бывает истолковано Израилем как сказанное о нем — государстве и мировом сионистском движении; что каждую декларацию в пользу иудаизма как религии Израиль использует как косвенную поддержку империалистической политике и экспансии мирового сионизма против арабских стран». Патриарх также заявил: «Никто не сомневается, что Собор не желает этого толкования, но желает Израиль, и соборные отцы, будучи ответственными людьми и реалистами, не должны попадаться на уловку, особенно в тех обстоятельствах, когда напряженность между арабскими государствами и Израилем находится на максимальном уровне»[25].
Плод диалога
В период между третьим и четвертым заседаниями II Ватиканского Собора сделать требовалось немало: подтвердить необходимость документа, знаменующего собой новое начало в отношениях с еврейским народом, и убедить арабов, что речь не идет об одобрении политических устремлений Израиля на Ближнем Востоке.
Сразу по окончании третьего заседания Павел VI отправился в Индию. Официальная цель путешествия — участие в Евхаристическом конгрессе, но заявил о себе и новый дух диалога с индуистами, буддистами и мусульманами. В пути Папа на час остановился в Бейруте, где встретился с политическими и религиозными лидерами, причем некоторые из них следили с глубокой озабоченностью за обсуждением документа о евреях и размышляли о том, что он означает для Ближнего Востока. Вскоре Понтифик направил письмо восточным католическим и православным патриархам, хваля их Церкви и высоко оценивая арабскую цивилизацию и роль христиано-мусульманского диалога[26].
Весной и летом 1965 года Павел VI направил делегацию, возглавленную епископом Йоханнесом Виллебрандсом, секретарем Секретариата по содействию единству христиан, на Ближний Восток, чтобы встретиться с христианскими лидерами в Бейруте, Дамаске, Иерусалиме и Каире и оценить общую атмосферу. По возвращении голландский иерарх составил обширный доклад, затем переданный соборным отцам. Виллебрандс не только сообщил, что документ о евреях отвергают все церковные лидеры, католики и некатолики, но и указал на обстоятельства, способствующие этому на Ближнем Востоке. О тех, кто в Европе и Северной Америке поддерживает документ, епископ пишет: «Нет понимания политических и религиозных трений на Ближнем Востоке, нет осознания сложности положения в этих странах. Слишком легко свести проблему к политической оппозиции нескольких арабских лидеров. Мы убеждены, что через двадцать лет после Аушвица Церковь — и в частности Собор — не может молчать об антисемитизме. Мы признаем религиозные корни антисемитизма и надеемся на новое богословское учение о тайне Израиля, на диалог с иудейским богословием и сотрудничество с евреями. Поскольку подавляющее большинство евреев находятся на Западе, это сближение между христианами и евреями легко отличить от политического вопроса, представленного Государством Израиль и сионистским движением»[27]. Виллебрандс сказал своим европейским и североамериканским коллегам, что, возможно, следует пересмотреть весь проект.
Итак, озабоченность церковных руководителей Ближнего Востока была принята во внимание. Во время четвертого заседания швейцарский епископ Франсуа Шарьер заявил, что Собор на самом деле прислушивается к голосам ближневосточных коллег: «Мы не должны навязывать решения другим Церквям только потому, что нас больше в численном отношении. Единодушие восточных патриархов и доклад монсеньора Виллебрандса производят сильное впечатление. Существование Восточных Церквей обязывает нас опираться не только на цифры. Единственное, что имеет значение: Восточные Церкви против декларации. Мы не можем заставить их принять наши идеи… Наш Собор не латинский Собор, а Вселенский»[28]. Максим IV, радуясь тому, что голос ближневосточных прелатов услышан, начал смягчать свою позицию и согласился одобрить переделанный текст, убеждая своих коллег на Ближнем Востоке поступить так же[29].
Диалог между Беа (с сотрудниками) и Максимом IV (с коллегами) принес заметные плоды. Документ о евреях был вписан в более широкий контекст: тему связали с отношением Церкви ко множеству нехристианских религий. Длинный параграф 4 о евреях предварили параграфом 3 — он короче, но не менее революционный — об отношении Церкви к мусульманам, и оно обозначено как «уважение». Одним из главных составителей параграфа о мусульманах стал Жорж Анавати, египетский доминиканец, которого Беа включил в Секретариат по содействию единству христиан в качестве консультанта по Восточным Церквям. Он сыграл существенную роль в развитии диалога с мусульманами[30]. Кроме того, в параграфе 4 документа Nostra aetate, об отношении к еврейскому народу, сказано, что «Церковь […], памятуя об общем с иудеями наследии и движимая не политическими соображениями, но духовной любовью по Евангелию, сожалеет о ненависти, о гонениях и обо всех проявлениях антисемитизма, которые когда бы то ни было и кем бы то ни было направлялись против иудеев». Отношение Церкви к еврейскому народу коренится в Евангелии и не может быть сведено к политическим мотивам. Выраженная немногословно — «не политическими соображениями», — эта основная перспектива задала направление последующему диалогу Церкви с еврейским народом.
Представив пересмотренный текст 14 октября 1965 года, Беа отметил, что европейские и североамериканские епископы, с одной стороны, и ближневосточные — с другой пришли ко взаимопониманию во внутреннем диалоге: «У всех этих усилий было две цели: 1) воспрепятствовать, насколько возможно, всякому менее точному толкованию богословского учения, изложенного в проекте; 2) гарантировать, что исключительно религиозная природа проекта будет ясно выражена, так что всеми средствами будет преграждена дорога любому политическому толкованию»[31]. Долгий процесс, в ходе которого арабские епископы согласились принять документ, где речь идет об иудаизме среди других религий, а европейские епископы обратили внимание на заботы Церкви на Ближнем Востоке, увенчался обнародованием декларации, известной как Nostra aetate, 28 октября 1965 года.
Заключение
Беа утверждает: «К этой декларации можно с полным правом применить библейский образ горчичного зерна. Ведь сначала речь шла просто о краткой декларации об отношении христиан к еврейскому народу. Однако с течением времени, а главное из-за дискуссии в этой аудитории, зерно, благодаря вам, выросло почти до дерева, и на его ветвях многие птицы уже находят себе гнездо, то есть в этом документе все нехристианские религии занимают свое место, по крайней мере в какой-то форме, что можно уподобить тому, как Верховный Понтифик, благополучно правящий, в энциклике Ecclesiam Suam раскрывает объятия всем нехристианам»[32].
Не менее важным для церковной жизни, чем составление декларации Nostra aetate, стал процесс, посредством которого Латинская Церковь вступила в плодотворный диалог с Восточными Церквями, расширяя самопонимание Церкви как подлинно католической. В ноябре 1964 года Собор опубликовал декрет об общении между Западной Латинской Церковью и Восточными Католическими Церквями, Orientalium Ecclesiarum, утверждая, что «Священный Собор весьма радуется плодотворному и деятельному сотрудничеству Восточных и Западных Католических Церквей»[33]. Максим IV и Беа — из числа первопроходцев в этом поступательном процессе взаимного слушания и узнавания.
В 1985 году, спустя двадцать лет после издания декларации Nostra aetate, Церковь еще раз пояснила, что конструктивный диалог с еврейским народом надо отделять от дипломатических и политических вопросов о Государстве Израиль и палестинском народе. Католики, безусловно, могут понять религиозную привязанность евреев к земле Израиля, но Израиль как государство должен подчиняться международному праву. «Христиане призваны понять эти религиозные узы, уходящие корнями в библейское предание, хотя и не обязаны разделять частное религиозное толкование этой связи. […] Существование Государства Израиль и его политические решения должны рассматриваться не с чисто религиозной точки зрения, а согласно общим принципам международного права»[34].
Итак, на одном полюсе религиозный, духовный и богословский диалог с еврейским народом, на другом — конфликт Израиля и Палестины; напряжение между этими полюсами по-прежнему занимает центральное место в отношениях между евреями и Католической Церковью. Обращаясь ко христианам-некатоликам и представителям других религий на второй день своего понтификата, Папа Лев XIV заявил: «Благодаря еврейским корням христианства все христиане поддерживают особые отношения с иудаизмом. Авторы соборной декларации Nostra aetate (№ 4) подчеркивают величие духовного наследия, общего для христиан и иудеев, поощряя взаимное узнавание и уважение. Богословский диалог между христианами и иудеями всегда остается важным и очень мне дорог. Вот и в нынешнее непростое время, отмеченное конфликтами и недоразумениями, необходимо продолжать с усердием наш драгоценный диалог»[35].
Разрешить «конфликты и недоразумения» в отношениях между Католической Церковью и еврейским народом будет гораздо легче, когда израильские евреи и палестинские арабы сумеют наладить общую жизнь в условиях равенства, справедливости и мира. Павел VI в рождественском послании от 1975 года выступил с призывом: «Хотя и сознавая, что недавние трагедии побудили еврейский народ искать надежной защиты в собственном суверенном и независимом государстве, […] мы призываем этот народ признать права и законные чаяния другого народа, тоже долго страдавшего — палестинского»[36]. Все последующие понтифики многократно повторяли этот призыв.
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] J. Isaac, Notes about a crucial meeting with John XXIII, в Council of Centers on Jewish-Christian Relations (ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/jewish/isaac1960), 13 июня 1960 г.
[2] A. Bea, La Chiesa e il popolo ebraico, Brescia, Morcelliana, 2015, 7.
[3] Ср. J. Borelli, Correcting the Nostra Aetate Legend: The Contested, Minimal, and Almost Failed Effort to Embrace a Tragedy and Amend Christian Attitudes Toward Jews, Muslims, and the Followers of Other Religions, в K. Ellis (ed.), Nostra Aetate, Non-Christian Religions and Interfaith Relations, Cham, Palgrave Macmillan, 2021, 31.
[4] Примеры — в важном издании по истории Собора: G. Caprile (ed.), Il Concilio Vaticano II: Cronache del Concilio Vaticano II. Quarto Periodo, Roma, La Civiltà Cattolica, 1965, 277 сл.
[5] Пример этой позиции — книга A. Melloni, L’altra Roma. Politica e S. Sede durante il Concilio Vaticano II (1959–1965), Bologna, il Mulino, 2000, 310–318.
[6] Ср. P. Doria, Il contributo del patriarca Maximos IV Saigh e della Chiesa greco-melchita al Concilio Vaticano II, Todi (Pg), Tau, 2023.
[7] Ср. Maximos IV, Chapter 14: The Church and Other Religions, в L’Église Grecque Melkite au Concile, Rabweh, Dar al-Kalima, 1967; английский перевод и предисловие Р. Тафта (melkite.org/faith/faith-worship/chapter-14).
[8] Там же.
[9] Там же.
[10] Цитата по изданию: S. Shofani, The Melkites at the Vatican Council II: Contribution of the Melkite Prelates to Vatican Council II, Bloomington, AuthorHouse, 2005, 106 s.
[11] K. Rahner, Towards a Fundamental Theological Interpretation of Vatican II, в Theological Studies 40 (1979/4) 717.
[12] Еврейские контакты кардинала Беа объявили, что назначат израильского гражданского чиновника Хайма Варди референтом при Церкви в Риме, с одобрения израильского правительства. Этот шаг вызвал негодование как в Ватикане, так и на Ближнем Востоке. Следствием стало снятие документа о евреях с повестки первого заседания Собора.
[13] Павел VI, св., Речь на торжественном открытии второго заседания II Ватиканского Вселенского Собора, 29 сентября 1963 г.
[14] A. Bea, La Chiesa e il popolo ebraico, цит., 141.
[15] Maximos IV, Chapter 14: The Church and Other Religions, цит.
[16] A. Bea, La Chiesa e il popolo ebraico, цит., 22.
[17] Павел VI, св., Энциклика Ecclesiam Suam, 6 августа 1964 г., № 111.
[18] Maximos IV, Chapter 14: The Church and Other Religions, цит.
[19] Ср. Liban — Chronique, в Proche-Orient Chrétien, 14 (1964) 368.
[20] S. Shofani, The Melkites at the Vatican Council II, цит., 107.
[21] A. Bea, La Chiesa e il popolo ebraico, цит., 147.
[22] Там же, 152.
[23] Там же, 153 сл.
[24] Коммюнике воспроизведено в Proche-Orient Chrétien, 14 (1964) 393–396.
[25] Maximos IV, Chapter 14: The Church and Other Religions, цит.
[26] Ср. Una Lettera del Santo Padre ai Patriarchi con sede nei Paesi Arabi, в L’Osservatore Romano, 6 января 1965 г.
[27] Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, V/3, 319 (archive.org/details/ASV.3/page/318/mode/2up?view=theater).
[28] C. Stackaruk, Retrieving MENA Catholics’ Contributions to Nostra Aetate, tesi di dottorato, University of St. Michael’s College, 2022, 193.
[29] Блестящую и точную оценку роли Максима IV читатель найдет здесь: P. Doria, Il contributo del patriarca Maximos IV Sajgh…, цит., 75–103.
[30] Ср. J.-J. Pérennès, Georges Anawati (1905–1994): Un chrétien égyptien devant le mystère de l’Islam, Paris, Cerf, 2008.
[31] A. Bea, La Chiesa e il popolo ebraico, цит., 160.
[32] Там же, 155.
[33] Павел VI, св., Декрет о Восточных Католических Церквях Orientalium Ecclesiarum, 21 ноября 1964, № 30.
[34] Департамент по содействию единству христиан, Пособие: как говорить о евреях и иудаизме в проповеди и катехизации Католической Церкви, 1985 (https://tinyurl.com/bdshvbcb).
[35] Лев XIV, Обращение к представителям других Церквей и церковных общин и других религий, 19 мая 2025 г.
[36] Павел VI, св., Обращение к Священной коллегии и Римской прелатуре, 22 декабря 1975 г., www.vatican.va
Фото: скульптурная работа «Диалог» Микеле Кьяруцци, Часовня Сант-Анна, Сан-Марино