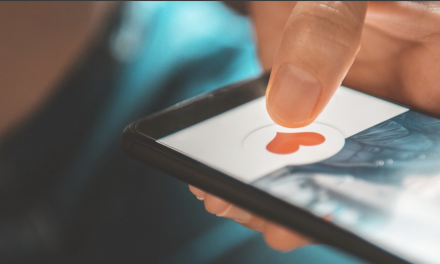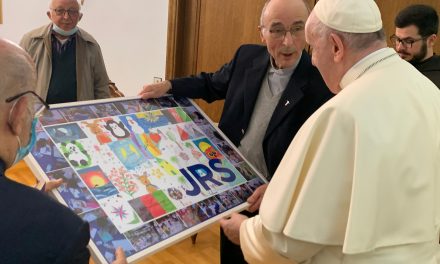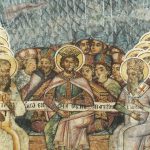Джованни Куччи SJ — Альдо Джаккетти
Неотложный вопрос нашего времени
Пожалуй, одна из важнейших задач нашего времени — распознать опытным путем онтологическое достоинство, свое и чужое. Проявляется оно главным образом в личных отношениях я–ты, где есть возможность яснее увидеть присущую ему ценность. Такие отношения помогают признавать всегда и везде онтологическое достоинство каждой личности и вытекающие из него права и обязанности.
Если достоинство конкретных людей нередко попирается[1], если свирепствует так называемая «эпидемия одиночества» (loneliness epidemic) и торжествует безличное, если само понятие личности ставится под вопрос, особенно теми, кто полагает, что оно ведет к обесцениванию тела и делению людей на личностей и не-личностей[2], — в этих обстоятельствах необходимо обратить пристальное внимание на встречу я–ты и на ее смысловой горизонт.
Достоинство личности должно быть распознаваемо каждым на опыте. Если оно не обретается в отношениях я–ты, есть опасность его проглядеть, хотя и ратуя за него на философском, богословском и юридическом уровнях. Есть люди, систематически игнорируемые, как бы «невидимые» обществу; иными словами, их достоинство не очевидно. Почему? Почему достоинство, свое и чужое, нередко ускользает от нашего взгляда?
Лицо и «я–ты»
Философ Эмманюэль Левинас настойчиво призывал обратить внимание на лицо другого человека в непосредственно этическом смысле, как проявление достоинства. Хотя этот термин не часто встречается в его текстах, размышление о лице можно истолковать как исследование человеческого достоинства, поскольку в лице выражена уникальность и уязвимость, взывающая к ответственности. Утверждать: «Лицо — то, что невозможно убить»[3],значит подразумевать достоинство человека как носителя неотъемлемой ценности. Согласно Левинасу, достоинство вытекает не из способностей личности и не из автономной свободы, а из трансцендентности, которая проявляется именно в лице: «Лицо означает Бесконечное»[4].
Все это доступно нашему опыту, если рассматривать его не как понимание, усваивающее свой объект, а как манифестацию отношений с абсолютно иным, которое превыше самого понимания[5]. Опыт — это отношения с другим, не восходящие и не сводимые к моему «я», они побуждают признать достоинство другого и ведут к соответствующему этическому действию: «Если мы в отношениях с другими, лицом к лицу, то мы не можем убивать»[6].
И наоборот, если мы идем против чужого достоинства, то сводим другого к самим себе. В дискуссии с Мартином Хайдеггером Левинас подчеркнул, что другого нельзя сводить к моему пониманию, потому что он преодолевает границы моего понимания: «Все то о нем, что исходит из бытия вообще, конечно, доступно моему пониманию и обладанию. Я его понимаю исходя из его истории, его среды, его привычек. То в нем, что ускользает от понимания, — вот это он сам, бытийствующий»[7].
Тема, еще раньше поднятая, но не раскрытая Людвигом Фейербахом[8], — трансцендентность другого как подлинно отдельная, то есть не как моя проекция — стала одним из ценных достижений так называемой «диалогической философии» (Эбнер, Бубер, Розенцвейг, Гвардини и т. д.). Эти философы выявили важность события–встречи я–ты, хотя и понимаемого по-разному каждым из них.
Мартин Бубер в эссе «Я и ты» подчеркивает, что событие «отношений» (Beziehung) и «встречи» (Begegnung) я–ты, характеризуемое актуальностью, непосредственностью, присутствием и взаимностью, раскрывает иной смысловой горизонт, чем другое фундаментальное выражение я–оно, относящееся к объектным и безличным связям, представленным в таких областях, как наука, техника, учреждения[9]. Хотя отношения я–оно сами по себе не плохи, таковыми они становятся в той мере, в какой личность не живет в мире личных отношений я–ты и остается в объектных и безличных отношениях, удушая и умаляя свое «я».
Хотя и признавая необходимость вписать в более точный метафизический контекст некоторые из утверждений Бубера[10], можем сказать, что его мысль внесла большой вклад в понимание встречи я–ты как события «между» (zwischen) одним и другим, открывая доступ к личному смысловому горизонту и к такому участию в бытии, какое иным способом недостижимо.
Искушение свести другого к объекту
Событие встречи происходит, только если мы вовлечены всем своим существом и не сводим другого ни к объекту, ни к нашему «я», ни к посредническим структурам — как в случае с системой идей, — в которые «я» пытается втиснуть реальность другого. В тексте, написанном около тридцати лет после «Я и ты», Бубер вопрошает о «межчеловеческом», то есть об отношениях между личностью и личностью внутри коллектива. И называет ряд условий, необходимых для того, чтобы «межчеловеческое» действительно осуществилось и выразилось в аутентичном разговоре: 1) обращаться с другим как с другим, а не как с объектом («Вот решающее условие: существо–не–предмет»); 2) более заботиться о том, чтобы показать себя таким, каков есть, чем произвести хорошее впечатление на другого; 3) воспринимать другого в его динамической и уникальной сердцевине, то есть осознать, что перед нами личность; 4) не навязывать себя другому[11].
Педро Лаин Энтральго, изучающий диалогическую философию, предлагает интересные размышления о том, каким образом, в перспективе Бубера, некто может сводить другого к объекту. Исследователь перечисляет три возможных подхода: сводить другого к препятствию, к орудию, к «никому». В первом случае другого мы видим как того, кто мешает нам идти своим путем, и это беспокоит. Во втором случае другой — предмет, чьими качествами мы пользуемся для достижения собственных целей, — следовательно, он становится объектом владения («Твои силы и возможности уже не твои, а мои»[12]). В третьем случае другой становится «никем», не только потому что его избегают или делают вид, что его нет, но и — еще радикальнее — потому что никогда не завязывают с ним тесных личных отношений. Согласно Лаину, помимо межличностных отношений, могут и должны быть объективирующие отношения (например, преподаватель–студент, с соответствующей объективной и универсальной педагогической техникой), но это очень далеко от сведения человека к объекту.
Романо Гвардини также полагает, что очень важно избегать сведения другого к объекту. Только когда прекращаются субъектно-объектные отношения, другой становится для меня ты. Когда во мне побеждена склонность объективировать другого, что-то пробуждается внутри меня, «я становлюсь открытым и “показываю” себя»[13]. Если одновременно я тоже становлюсь для другого ты — таким, каков я есть, в незащищенной открытости отношений я–ты, — открываются лица у обоих и устанавливается связь между личностями, чьи судьбы соединяются в личном смысле[14]. Эти отношения я–ты могут осуществляться по-разному и на разной глубине: от простого приветствия до доверия и, наконец, любви.
Уточним, что для Гвардини личность реализуется в отношениях я–ты, «но не возникает из них»[15]. Личность — это реальное существо разумной природы, принадлежащее себе; именно поэтому никто на самом деле не может ею владеть. Каждая личность принадлежит себе исходя из отношений, ее созидающих: «Я принадлежу себе, но “в Боге”»[16]. А значит, отношения Бог–человек лежат в основе нашей личностной природы и способности выходить за собственные пределы. Эти созидающие отношения также стоят у истоков нашего «абсолютного достоинства», которое «происходит не из нашего бытия, конечного, а только от Того, Кто сам абсолютен. Причем не из абстрактного абсолюта […], а из того факта, что Бог нас создал личностями»[17].
Встреча и ответ на личную ценность
Встреча, вскрывающая метафизическую реальность личности, описана и в трудах Эдит Штайн, которая не пользуется диалогическим принципом как таковым, но рассматривает личность как в феноменологической, так и метафизической перспективе: «Я смотрю человеку в глаза, и его взгляд мне отвечает. Впускает меня внутрь или отталкивает. Он — хозяин своей души, может закрыть или открыть дверь. Может выходить за свои пределы и проникать в предметы. Когда два человека смотрят друг на друга, одно “я” находится перед другим “я”. Встреча может состояться у дверей или внутри. Когда встреча внутри, другое “я” — это “ты”. Взгляд человека говорит. Меня видит “я”, хозяин самому себе, бодрствующий. Скажем также: свободная духовная личность. Быть личностью — значит быть свободным и духовным. Человек — личность, это отличает его от всех природных существ»[18].
Встреча и выход за свои пределы требуют участия всех ресурсов личности. Дитрих фон Гильдебранд поясняет, как взаимодействуют ум, воля и чувства в этом выхождении за свои пределы к другому. Личность — сознательное существо, способное знать, любить и желать. Именно аффективному ответу на ценность, в частности на ценность другой личности, свобода личности говорит да[19]. У сердца роль не менее важная, чем у ума и воли; причем в самых значимых человеческих отношениях его роль главная[20].
Всегда речь идет о самом настоящем выходе за свои пределы навстречу другой личности, от я к ты, и об ответе на реальные ценности, а не только о субъективном удовлетворении: «Наш ответ трансцендентен — то есть свободен от чисто субъективных нужд и желаний […]. Итак, аффективный ответ на ценность — вот самое радикальное возражение любому чисто имманентному проявлению нашей природы, которая в противном случае соглашается со всеми импульсами и аппетитами»[21].
С другой стороны, фон Гильдебранд назвал два фактора, не дающие человеку обнаружить ценность в других людях и предметах: похоть («Что меня удовлетворит?») и гордыня («Вырастет ли мой престиж?»). Их можно преодолеть добродетелью «благоговения»: по мнению немецкого философа, эта добродетель — мать всей нравственной жизни, поскольку благодаря ей человек занимает такое «положение по отношению к миру, что открываются его духовные очи, и он может разглядеть ценности»[22].
Проявление личного достоинства
Достоинство личности, по своей динамической природе, склонно проявляться или теряться из виду в свободных жизненных решениях[23]. Оставив в стороне метафизику бытия, обратимся к иной сфере, где о достоинстве размышляет выдающийся толкователь диалогической мысли Бернхард Каспер, тоже избрав феноменологическую перспективу (понимаемую как исследование того, что являет себя самобытно исходя из самого себя). Достоинство не некое качество, а то, что человек в целом из себя представляет; достоинство проявляется в свободном общении двух людей посредством языка. Согласно Касперу, «в феномене языка, ключевом для человечности человека, мы находим адекватный доступ к тому, что понимаем под “достоинством” и “достоинством человека”»[24].
Другой — это отношение само по себе, мне он не подвластен, он делает что-то с собой и с предметами в мире незаменимым образом, автономно. Но эту автономию следует понимать не в абстрактном и эгологическом смысле, а как ответ другому, как взятие ответственности по отношению к нему. Достоинство человека проявляется в этом «делании чего-то из себя перед лицом других»[25] как образ действий ответственного существа.
Габриэль Марсель (его тоже считают диалогическим мыслителем) уже пояснил, проведя знаменитое философское различие между «проблемой» и «тайной», что доступ к определенным реалиям, в которых мы участвуем и вовлечены лично — таким, как различие между душой и телом или, яснее, опыт любви, — нам не дается, если мы с ними обращаемся, словно это объекты, то есть проблемы. Различие между «проблемой» и «тайной» явно обнаруживается в опыте встречи с другим человеком, которая меняет нам жизнь и очень значима для нас. Эту встречу нельзя понять, ища ее причины в сходных чертах или повреждениях, общих у меня с этим человеком или с другими, или в простом совпадении, но она остается тайной, куда мы, может быть, проникнем со временем. Только вступая в отношения и не рассматривая это событие как объективную проблему, мы сможем в какой-то мере понять любовь[26].
В этой перспективе, по мнению Марселя, невозможно сохранить таинственный принцип, лежащий в основе человеческого достоинства, если ясно не заявлен священный характер личности. Полагая, что идея достоинства, выраженная Кантом[27], уже не жизнеспособна, французский философ утверждает, что сакральность человека должна бросаться в глаза: «Священный характер человека станет яснее, когда мы подойдем к человеку в его наготе и слабости, к человеку безоружному, каким мы его встречаем в ребенке, старике, бедняке»[28].
Марсель решительно становится на сторону Левинаса, особенно когда речь идет о неустранимой самобытности встречи «лицом к лицу», где лицо другого предстает перед нами с такой содержательностью, какую не найдешь в мире объектов или данных.
Онтологическое достоинство личности
Но философское размышление непременно должно перейти от феномена к основанию, от антропологического опыта к метафизике. Личность «est nomen dignitatis (есть имя достоинства)»[29]; назвать человека «личностью» — значит признать за ним неотъемлемое достоинство, не измеряемое количественно, не сводимое к частным качествам, а онтологическое, в силу того факта, что человек существует[30]. Этим термином обозначают не что такое человек, а кто он, уникальный и неповторимый: «Термин “личность” […] указывает не столько на что-то, сколько на кого-то […]. Очевидно, что на вопрос “Что из себя представляет?..” дают общий или специфический ответ, определение или что-то в этом роде, тогда как на вопрос “Кто?” ответом обычно служит собственное имя или нечто равноценное […], индивидуальное свойство»[31].
Следовательно, достоинство основано не на абстрактной идее, не на всеобщей человеческой природе, а на личном качестве, присущем человеку, то есть на том, что он — конкретный индивид, существующий в силу акта бытия, который делает его хозяином своей природы и своих действий: «Под личностью мы понимаем сознательное и свободное Я. Оно свободно, потому что оно “хозяин своих дел”, потому что само определяет свою жизнь — посредством свободных действий. Свободные действия — первая сфера господства личности. Однако, поскольку посредством своего действия личность оказывает формирующее влияние на тело и душу, “человеческая природа”, ей присущая, находится под ее господством»[32]. Этот акт бытия, а значит и достоинство, для него характерное, трансцендентен, поскольку получен, требует участия, хотя и доступен разумному пониманию каждого человека — более или менее ясно[33].
Осознание трансцендентности достоинства, с явной отсылкой к Откровению, достигает исторической зрелости на философском уровне в эпоху Гуманизма, например в работах De Dignitate et excellentia hominis (Джанноццо Манетти, 1452–1453) и Oratio de hominis dignitate (Пико делла Мирандола, 1486). В тексте Манетти читаем, что человеческая природа соединяется в личности Христа с Божественной природой: «Ведь мы знаем, что Бог, чтобы показать необыкновенное достоинство и невероятное превосходство человеческой природы, не дал, не предоставил, не уделил это свойство ни ангелам, никакому иному созданию, кроме одного только человека»[34].
От «я–ты» к «мы»
Итак, источник достоинства — личная, единственная и неповторимая любовь, с какою Бог обращается к каждому человеку. Это «онтологическое достоинство», оно есть в каждой личности, «независимо от обстоятельств» физической, психологической, духовной, нравственной или социальной природы, каких бы то ни было, и всегда в ней остается, невзирая на тот факт, может ли оно быть адекватно выражено или опознано и признано другими (ср. Dl 15; 1; 7; 20).
В христианской перспективе я–ты всегда включено в братское мы: мы дети в Сыне и, следовательно, братья во Христе, единые в одном Духе на пути к Отцу. Члены народа Божия, исторического мы, устремлены к Мы Отца, Сына и Святого Духа. В этом смысле Йозеф Ратцингер подчеркнул, что в христианстве диалогический принцип всегда включен в мы церковного общения, что указывает на его исток — Мы как общение Божественных Личностей: «В христианстве не представлен простой диалогический принцип в современном смысле отношений я–ты; этот чистый диалогический принцип не работает ни для человека, помещенного в историческую преемственность народа Божия, в обширное историческое мы, которое его держит, ни для Бога, поскольку Бог не просто я, а мы: Отец, Сын, Дух»[35].
Таким образом, онтологическое достоинство личности берет начало и достигает полноты в общении Божественных Личностей. Отношения я–ты как взаимная трансцендентность проливают свет на личное достоинство, и оно становится ярче и очевиднее в наших глазах. Таково личное достоинство: не только находится в фокусе всех трудов ради общего блага и справедливого юридического порядка, но и направляет личность к самому полному и окончательному смысловому горизонту, к которому каждый из нас призван.
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Ср. Департамент вероучения, Декларация Dignitas infinita о человеческом достоинстве, 8 апреля 2024 г., № 33–62.
[2] Ср. G. Cucci, Religione e secolarizzazione. La fine della fede?, Assisi (Pg), Cittadella, 2019, 191–220; R. Esposito, Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale, Torino, Einaudi, 2007.
[3] E. Lévinas, Etica e infinito. Dialoghi con Philippe Nemo, Roma, Castelvecchi, 2012, 88.
[4] Там же, 99.
[5] «Об отношениях с бесконечным нельзя, конечно, говорить в терминах опыта — ведь бесконечное превосходит ту мысль, которая его мыслит. […] Но если опыт означает именно отношения с абсолютно иным — то есть с тем, что всегда превосходит нашу мысль, — то отношения с бесконечным представляют собой опыт по преимуществу» (Его же, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Milano, Jaca Book, 2016, 23).
[6] Его же, L’ontologia è fondamentale?, в Его же, Tra noi. Saggi sul pensare all’altro, там же, 1998, 39.
[7] Там же, 38.
[8] Ср. L. Feuerbach, Fondamenti della filosofia dell’avvenire, Firenze, Clinamen, 2015, 111.
[9] «Другое ключевое слово — пара я–оно, где “оно” можно заменить словами “он” или “она”, при этом ключевое слово не изменится» (M. Buber, Io e tu, в Его же, Il principio dialogico e altri saggi, Cinisello Balsamo [Mi], San Paolo, 1993, 59). Габриэль Марсель возразил Буберу, что термин «отношения» неподходящий, поскольку слишком общий (ср. G. Marcel, L’antropologia filosofica di Martin Buber, в M. Buber — E. Lévinas — G. Marcel, Il mito della relazione, Roma, Castelvecchi, 2016, 39). Бубер, отвечая, признал, что термин отличается прерывностью, но именно поэтому способен отдать должное измерению несказанного, присущему любым отношениям (ср. M. Buber, Repliche di Martin Buber, там же, 77).
[10] В письме-комментарии на черновик книги Бубера, за год до ее публикации в 1923 г., Франц Розенцвейг заметил, что если слишком сильно подчеркивать «я–ты» в ущерб связи «я–оно», это может привести к обеднению и непониманию всех фундаментальных отношений: Бог–человек, Бог–мир, человек–мир. Ср. F. P. Ciglia, Dialogo in dialogo. La lezione di Bernhard Casper a confronto con Rosenzweig e Buber, в S. Bancalari (ed.), La trascendenza nel linguaggio. Prospettive sulla filosofia della religione di Bernhard Casper, Pisa, Ets, 2024, 25–62.
[11] Ср. M. Buber, Elementi dell’interumano, в Его же, Il principio dialogico…, цит., 295–315.
[12] P. Laín Entralgo, Teoría y realidad del otro, Madrid, Alianza, 1983, 555. Ср. J. Böckenhoff, Die Begegnungs-Philosophie, Freiburg — München, Alber, 1970, 180–182.
[13] R. Guardini, Mondo e persona, Brescia, Morcelliana, 2000, 164.
[14] Ср. там же, 164 сл.
[15] Там же, 166.
[16] Его же, Persona e personalità, там же, 2006, 32.
[17] Его же, Mondo e persona, цит., 174.
[18] E. Stein, La struttura della persona umana, Roma, Città Nuova, 2000, 124.
[19] «Высочайшее проявление сотруднической свободы — согласие, “да” нашего свободного духовного центра, которое формируется внутри нашей “подверженности” ценностям и, что еще важнее, нашего аффективного ответа на них» (D. von Hildebrand, Il cuore. Un’analisi dell’affettività umana e divina, Verona, Fondazione Centro Studi Campostrini, 2022, 105).
[20] «Однако во многих других областях скорее сердце, чем воля или ум, составляет самую внутреннюю часть личности, ее ядро, ее подлинную самость. Так обстоят дела, например, в царстве человеческой любви: супружеской, дружеской, сыновней и родительской. Сердце здесь подлинная самость не только потому, что любовь — это, по сути, голос сердца, но и потому, что любовь особым образом устремлена к сердцу любимого. Любящий хочет излить свою любовь в сердце любимому, хочет поразить его сердце, чтобы наполнить счастьем; только тут он ощутит, что в самом деле достиг любимого, его подлинной самости» (там же, 101).
[21] Там же, 62 сл.
[22] Ср. D. von Hildebrand — A. von Hildebrand, L’arte di vivere, Brescia, Morcelliana, 2021, 28.
[23] Этот аспект ясно прописан в документе Департамента вероучения Dignitas infinita (DI): «Хотя каждому человеку присуще неотъемлемое достоинство с самого начала жизни как неотзываемый дар, только сам этот человек свободно и ответственно решает, выражать и проявлять его в полной мере или помрачать» (DI 22).
[24] B. Casper, Dignità e responsabilità. Una riflessione fenomenologica, Brescia, La Compagnia della Stampa, 2012, 28.
[25] Там же, 33.
[26] Ср. G. Marcel, Position et approches concrètes du mystère ontologique, Louvain, Nauwelaerts, 1967, 57–62.
[27] «В царстве целей у всего есть цена или достоинство. Что имеет цену, то можно заменить чем-то другим, равноценным. А что не имеет цены, а значит не допускает эквивалентов, то обладает достоинством […]; это — условие, при котором, и только при нем, нечто может быть самоцелью, имеет не просто относительную ценность, то есть цену, а неотъемлемую ценность, то есть достоинство. Нравственность — единственное условие, при котором разумное существо может быть самоцелью […]. Следовательно, только нравственность и человечество, поскольку оно способно быть нравственным, обладают достоинством […]. Автономия, таким образом, есть основание достоинства человеческой природы и всякой разумной природы» (I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, Bari, Laterza, 1977, 103; 105).
[28] G. Marcel, La dignité humaine et ses assises existentielles, Paris, Aubier, 1964, 168. Ср. G. Cucci, Gabriel Marcel nel 50° della morte, в Civ. Catt. 2023 III 545–554.
[29] Фома Аквинский, св., Сумма теологии, I, q. 1, a. 8, ad 2; ср. R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, Bari, Laterza, 2007, 30; Иоанн Павел II, св., Энциклика Fides et ratio, № 83.
[30] Ср. Фома Аквинский, св., Сумма теологии, I, q. 29, a. 3, ad 2.
[31] Riccardo di San Vittore, De Trinitate, IV, 20.
[32] E. Stein, Essere finito e essere eterno. Per una elevazione al senso dell’essere, Roma, Città Nuova, 1988, 397. Ср. Фома Аквинский, св., Сумма теологии, I, q. 29, a 1; q. 30, a. 4.
[33] Корнелио Фабро предлагает уместное уточнение: «Термин “участвовать” имеет свойство выражать одновременно сущностную зависимость участвующего от того, в чем он участвует, и абсолютное метафизическое превосходство того, в чем участвуют. Таким образом, глагол “участвовать” выражает — точнее, чем любой другой философский термин — отношение между конечным существом и бесконечным бытием, творением и Творцом» (C. Fabro, La nozione metafisica di partecipazione, secondo San Tommaso d’Aquino, Roma, Editrice dell’Istituto del Verbo Incarnato, 2005, 344).
[34] G. Manetti, Dignità ed eccellenza dell’uomo, Milano, Bompiani, 2018, 249; ср. G. Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità dell’uomo, Milano, Guanda, 2003, 7–11.
[35] J. Ratzinger, Il concetto di persona nella teologia, в Его же, Dogma e predicazione, Brescia, Queriniana, 1973, 187.