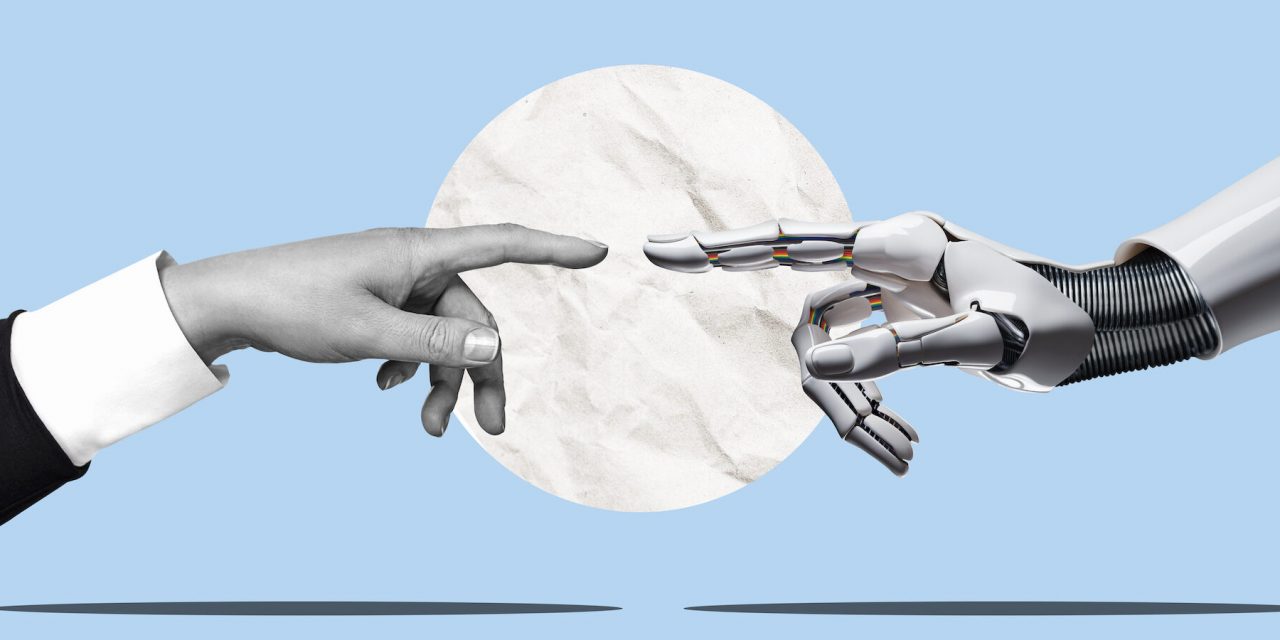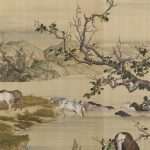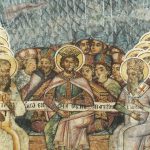Ференц Пач SJ
Вопросом века можно назвать, пожалуй, развитие искусственного интеллекта (ИИ): он для того, чтобы помогать человеку, поддерживать и расширять его возможности или заменить его? А у Церкви есть право голоса на эту тему? Нота Antiqua et nova (AN), опубликованная совместно с Департаментом вероучения и Департаментом культуры и образования 28 января 2025 года, с одобрения Папы Франциска, высказывается по темам, сформулированным выше. Также она содержит полный и компетентный анализ широкого круга этических вопросов касательно искусственного интеллекта и его соотношения с человеческим умом[1].
Документ, достаточно объемный — 117 параграфов и 215 подстрочных сносок, — отнюдь не следует считать простой «апологетической книжкой». Стандарты этого литературного жанра, как правило, уже очень высоки, но Antiqua et nova отличается образцовой четкостью анализа проблем и возможностей, связанных с ИИ, насколько их можно сейчас предвидеть. Трансдисциплинарный подход обеспечивает научно компетентную и в то же время подлинно богословскую трактовку этого современного технологического феномена, вписывая его в социальное учение Церкви. Документ доносит до нас две основные мысли: с одной стороны, человеческий ум в принципе не сводится к ИИ (ср. AN 7–12; 30–35); с другой — ориентирами в его нравственном развитии должны быть человеческое достоинство и общее благо (ср. AN 48; 50; 106; 42; 43; 110). Документ реалистичен, но и вселяет надежду: авторы утверждают, что ИИ «может быть поставлен на службу человечеству и вносить вклад в общее благо» (AN 106; ср. 110).
Нота берет за основу нравственное и социальное учение Церкви и предыдущие заявления Папы Франциска на тему ИИ. Документ состоит из шести частей, органично связанных между собой: после краткого «Введения» (I) дано разъяснение, «что такое искусственный интеллект» (II); далее следует анализ «понятия интеллекта в философской и богословской традиции» (III); рассмотрена «руководящая роль этики в развитии и применении ИИ» (IV); в самом объемном разделе разобраны достаточно подробно «некоторые конкретные вопросы» (V); в конце изложены «заключительные размышления» (VI).
Данная статья — обзор, безусловно не исчерпывающий, важнейших идей документа с философско-богословской точки зрения, с особым вниманием к новым элементам.
«Обманчивое» название ИИ и развенчание «техно-оптимизма»
В обычной жизни мы уже привыкли пользоваться антропоморфным языком (уподобляющим человеку), когда говорим о так называемом «искусственном интеллекте». Такие выражения, как «машинная память», «машинное общение», «машинное обучение» и даже «машинное рассуждение» прочно вошли в нашу речь. Все это, по-видимому, выражает глубокую потребность человека устанавливать эмоциональные и эмпатические отношения (почти как с личностью) с тем, что похоже на живое существо. Предположительно, речь идет о потребности ослабить ощущение угрозы от инаковости машин[2]. Новый вероучительный документ обращает наше внимание на реальную опасность: гуманизация языка — это и источник недоразумений, поскольку в итоге мы необоснованно приписываем машине свойства, присущие человеку.
Antiqua et nova предупреждает, что у машин, называемых «умными», качество ума не такое, как у человека (ср. AN 7–12), поэтому введение понятия «искусственный интеллект» — поначалу ради маркетинга, чтобы вызвать интерес и привлечь инвесторов к финансированию исследований[3] — на самом деле сбивает с толку. Да, некоторые системы ИИ — в частности, так называемый «слабый ИИ» (narrow AI) (AN 8) — могут «поддерживать или даже замещать человеческие возможности во многих секторах» (AN 9). В частности, они продемонстрировали свою эффективность при выполнении конкретных задач, таких как анализ данных, распознавание изображений, медицинская диагностика, перевод с одного языка на другой, прогноз погоды, классификация изображений, генерация изображений по требованию пользователя и ответ на сложные вопросы. Тем не менее они не «умны» в строгом смысле слова.
Конечно, среди исследователей есть те, кто надеется, сказано в документе, что удастся создать так называемый «сильный искусственный интеллект» (AGI), превосходящий умственные способности человека, — например, биотехнология сделает возможным «супердолголетие», — но не все разделяют этот «техно-оптимизм»; некоторые ученые настроены более скептически (ср. AN 9). К чему бы ни привели исследования, общее впечатление таково: «Подразумевается, что слово “интеллект” можно применять одинаково и к человеческому уму, и к ИИ» (AN 10). Однако «это вряд ли отражает реальное содержание данного понятия» (там же). В любом случае первичная точка отсчета для слова «интеллект» — на языке схоластики princeps analogatum — это человек: «Ведь интеллект — это способность, относящаяся к личности в целом, тогда как в случае с ИИ его понимают в функциональном смысле [то есть чисто аналогическом]» (там же). Следовательно, ИИ «следует рассматривать не как искусственную форму интеллекта, а как один из его плодов » (AN 35). В самом деле, «передовые характеристики ИИ дают ему изощренные способности решать задачи, но не дают способности думать» (AN 12)[4].
Целостное понимание человеческого ума и «цифровой редукционизм»
Чтобы показать, что человеческое понимание отличается от «понимания» машин не только на практике, но и в принципе, нота предоставляет краткий обзор философской мысли (ср. AN 13–29). Самая важная часть этого обзора — средневековая философская традиция, где к идее «интеллекта» приближаются взаимодополняющие понятия intellectus («ум») и ratio («разум»). Согласно св. Фоме Аквинскому, только ум способен постичь истину, лежащую в основе предметов, а разумное понимание «происходит [только] от исследования и дискурсивного процесса [мысли]»[5]. Таким образом, умное понимание — это глубочайшее постижение истины (то есть «ее усматривают “очи” ума»), лежащее в основе всякого рассуждения; разум же отвечает за дискурсивный и аналитический процесс, ведущий к формулированию суждения. Отметим, что ИИ способен лишь на такой разумный процесс, поэтому можно сказать, что его функционирование соответствует только уровню ratio, тогда как интеллект человека как такового включает в себя оба уровня: человек может мыслить также и на уровне intellectus (ср. AN 14).
По мнению, распространенному среди эмпириков — к нему особенно благоволят так называемые «дисциплины STEM» (наука, технология, инженерия и математика), — термин «интеллект» надо понимать функционально. Согласно тесту Алана Тюринга, как напоминают авторы документа, «машину следует считать “умной”, если человек не способен отличить ее поведение от поведения другого человека» (AN 11). В этом контексте под поведением явно имеется в виду решение «специфических интеллектуальных задач» (там же). Но, так рассуждая, мы пренебрегаем человеческим опытом во всем его объеме: ведь этот опыт — не только абстрактная мысль, но и целая гамма эмоций, творчество в эстетическом, нравственном и — не в последнюю очередь — религиозном смысле. В самом деле, человеческий ум способен на большее, чем просто решать функциональные проблемы: вместо того чтобы вставлять, как в пазле, недостающие элементы в общую картину, он может в каком-то смысле видеть насквозь целую систему и даже в какой-то мере изобретать ее, творить ее. С этой точки зрения есть неустранимая разница между человеческим умом, по определению творческим, и искусственным интеллектом, но эту разницу почти стирает поверхностное обращение с терминами. В противоположность методичным, но редукционистским научным подходам, Antiqua et nova выносит на первый план вот какую истину: «В случае с ИИ “интеллект” системы [обычно] оценивают методологически, но и редукционистски, на основании его способности давать уместные ответы […] независимо от способа, каким эти ответы генерируются» (там же).
Далее в документе подчеркнуто, что ролью тела — наличие или отсутствие — отнюдь нельзя пренебрегать, проводя различие между человеком и алгоритмом. Авторы документа справедливо замечают: хотя продвинутые системы ИИ можно научить «учиться» (machine learning) в определенных условиях, «такая дрессировка по сути иная, чем развитие и рост человеческого ума, поскольку на его формирование влияет телесный опыт: сенсорные стимулы, эмоциональные реакции, социальное взаимодействие и уникальный контекст каждого момента» (AN 31). Такого рода элементы моделируют и формируют отдельного индивида, поскольку «человеческий ум постоянно и органично развивается в ходе физического и психологического роста» (там же) и в своем развитии «формируется под влиянием опыта, обретаемого в мириады моментов телесной жизни» (там же). Поэтому в сравнении с ним умную машину «надо рассматривать как то, что она есть: орудие, а не личность» (AN 59; ср. AN 68; 102).
Нравственная ответственность, основанная на достоинстве личности и общем благе
Очевидно, что главная цель публикации документа Antiqua et nova — вовлечь людей доброй воли в размышление над моральными вопросами, связанными с ИИ, в свете христианской совести и социального учения Церкви и уведомить широкую публику о возможных злоупотреблениях. Неслучайно слово «ответственность» и его однокоренные родственники появляются более 40 раз в итальянском тексте[6]. Вот очень значимое высказывание: «Чтобы ответить на эти вызовы, нужно привлечь внимание к важности нравственной ответственности, основанной на достоинстве и призвании личности. Этот принцип распространяется и на вопросы, связанные с ИИ. В данной сфере этическое измерение обретает первостепенную важность, поскольку именно личности проектируют системы и определяют, каким целям те будут служить» (AN 39). Авторы документа, исходя из реалистичных антропологических взглядов, утверждают: если сравнивать «машину и человека, из них только последний — подлинно деятель в нравственной сфере, то есть нравственно ответственный субъект, который реализует свою свободу в собственных решениях и принимает их последствия» (там же), потому что только люди «соотносимы с истиной и добром» и только людьми «руководит совесть», всех нас призывающая «любить, делать добро и избегать зла» (там же). В силу этой особой ответственности человек призван «следовать голосу совести, благоразумно различая и стремясь к возможному благу в каждой ситуации». Все это сугубо человеческое, «принадлежит к сфере применения ума личностью» (там же).
В традиционном нравственном богословии (аристотелевско-томистском), лежащем в основе документа Antiqua et nova, нравственное качество действия зависит от трех факторов: нравственный объект, намерение и обстоятельства. Нота призывает учитывать все три аспекта каждый раз, когда мы применяем ИИ. Antiqua et nova, продолжая и развивая содержание энциклики Папы Франциска Fratelli tutti (2020), предлагает двойной критерий для нравственного суждения об ИИ: человеческое достоинство и общее благо. ИИ можно считать нравственно доброкачественным, только если, с одной стороны, он служит «достоинству, присущему каждому мужчине и каждой женщине», а с другой — помогает «выражать это достоинство и наращивать его проявление на всех уровнях человеческой жизни, включая социальную и экономическую сферу» (AN 42). Документ, фокусируясь на целостном благополучии (ср. AN 27; 111) и вообще на благе человеческой личности (ср. AN 1; 6; 10; 16; 26–29; 51; 54; 68; 74; 77-79; 97–98; 111; 116 и т. д.), требует всецелой заботы о другом человеке (ср. AN 116) и помещает развитие ИИ в ту же этическую перспективу.
Все это выходит далеко за рамки машинной логики и предполагает наличие кардинальной добродетели «благоразумия». С ней отдельные люди и сообщества могут «распознавать, как использовать ИИ во благо человечеству, в то же время избегая вариантов применения, чреватых ущербом для человеческого достоинства или для планеты» (AN 47). В этом контексте понятие ответственности следует понимать в широком смысле: она означает не только «давать отчет в том, что сделано», но и «заботиться о другом человеке» (AN 47; 111). Эти идеи подчеркивают ответственность индивида — отсутствующую у машины или алгоритма — и увязаны с ответственностью сообщества, что позволяет применять социальное учение Церкви в том числе и к технологическим вопросам.
Богословское значение документа
Из сказанного уже очевидно, что было бы несправедливо обвинять ноту Antiqua et nova в том, что она занимается чисто мирской темой, не имеющей ничего общего со спасением человека. Обвинение полностью опровергнуто тем фактом, что предисловие к ноте в высшей степени богословское. Во введении в главу IV об этике веско поставлен главный вопрос: как понять ИИ внутри Божьего замысла? (ср. AN 36). Чтобы ответить, необходимо выйти на философско-богословский концептуальный уровень. Поскольку фундаментальные истины христианства могут быть выражены очень разными способами, авторы документа обращаются за помощью к разным мыслителям.
Список цитируемых авторов длинный: помимо учительства Церкви, представлены Псевдо-Дионисий Ареопагит (ср. AN 21), св. Фома Аквинский (ср. AN 13; 14; 16; 17), св. Бонавентура (ср. AN 24; 25), Данте (ср. AN 28), Блез Паскаль (ср. AN 21), Поль Клодель (ср. AN 28), Джон Генри Ньюман (ср. AN 27), Ханна Арендт (ср. AN 82, прим. 152) и Мартин Хайдеггер с его критикой техники (AN 12, прим. 13). Многочисленные источники ноты сведены в гармоничное целое на основании томистской антропологии, которая говорит о человеке в традиционных антрополого-метафизических терминах (intellectus—ratio, тело-душа и т. д.). Важнейшее качество личности, так понимаемой, — «врожденное […] стремление к истине» (AN 22; ср. AN 23; 56; 85). Оно проявляется в том, что личность «всегда выходит за» эмпирические границы, тяготея ко «все большему» (AN 21) и «потустороннему» (AN 29), не оставаясь в плену «собственных ограничений» (AN 31). Этот поиск истины «достигает наивысшего проявления в открытости навстречу реалиям, превосходящим физический и тварный мир» (AN 23).
Элементы современной персоналистической мысли — они характерны для учения Папы Франциска, но могут быть найдены и в документах, изданных его предшественниками, — помогают метафизической аргументации не стать абстрактной. Например, Катехизис Католической Церкви в параграфе 357 напоминает, что все люди по природе призваны к союзу со своим Творцом и с другими людьми, а это значит, что личности обладают «способностью узнавать друг друга, отдавать себя из любви и вступать в общение с другими. Поэтому человеческий ум не изолированное свойство, он проявляет себя в отношениях» (AN 18). Это значит, что, как сама личность, так и ум может выразить себя полностью только в диалоге и сотрудничестве, то есть в искренней солидарности с другими (ср. AN 18). Согласно ноте, глубочайшие причины этого факта — богословские: «В человеческом уме отражен Божественный ум, сотворивший все на свете» (AN 25).
Отметим, что эта экзистенциальная и персоналистическая перспектива прекрасно согласуется с учением Священного Писания: любовь к Богу нельзя отделить от любви к ближнему (ср. Мф 22, 37–39 и пар.; 1 Ин 4, 20). Следовательно, в конечном итоге «нацеленность человеческой личности на отношения основана […] на вечной самоотдаче Триединого Бога, Чья любовь проявляется и в творении, и в искуплении» (AN 19). Поэтому каждый человек призван «разделить с Богом Его жизнь в познании и любви» (там же) и, поскольку он сотворен по образу и подобию Божию, «обладает сущностным созерцательным измерением» (AN 29); «подлинный ум сформирован Божьей Любовью» (там же).
Открытые вопросы
Несмотря на гармоничность и прочие несомненные достоинства ноты, два вопроса — один философский, другой богословский — пока остались открытыми. Во-первых, применение слова «орудие» или «средство» к искусственному интеллекту[7]. Очевидно, что если речь идет о разговорном языке, такой выбор слов вполне оправдан и закономерен: ИИ — просто наше изобретение, он выполняет задачи, но не может думать. Как мы уже видели, ошибочно приписывать ему человеческие свойства, поскольку в этом смысле он всего лишь инструмент, работающий в логико-математической сфере: неспособен понимать смысл реальности, ни творить по-настоящему, не обладает интуицией; не выносит нравственных суждений, не интересуется трансцендентальными вопросами красоты, добра, истины и т. д. Иными словами, он лишен всего подлинно человеческого. Таким образом, с философской и богословской точки зрения неприемлемо «персонифицировать» искусственный интеллект или говорить с излишним техно-оптимизмом о «пробуждении в нем сознания»[8]. Поэтому ИИ — действительно только орудие, и анализ, представленный в ноте, безупречен в этом отношении.
Вместе с тем, однако, философский язык и то, как мы его слышим, сегодня эволюционируют. В свете недавних философских находок мы уже не говорим, например, что язык — только средство общения; на самом деле он намного больше: пропитывает наше восприятие, существенно определяет наше мировоззрение и влияет в целом на наш подход к жизни[9]. Подобным же образом, технологию как систему не следует рассматривать как простое «орудие». Мартин Хайдеггер — на чью работу о языке ссылается Antiqua et Nova в примечании 13 — справедливо отметил, что считать технику просто инструментом или средством значит недооценивать ее роль с философской точки зрения. В примере, приведенном немецким философом, старая ветряная мельница преобразовала ветер в энергию, но не насиловала природу: позволяла ветру оставаться ветром[10]; таким же образом деревянный мост, веками соединявший два берега реки, еще можно было определить как орудие в той мере, в какой он обеспечивал перемещение карет, запряженных лошадьми. Однако гидроэлектростанция, построенная на Рейне, уже не только орудие, но нечто гораздо большее: она изменила окружающую среду настолько, что в каком-то смысле можно сказать, что это Рейн вписался в гидроэлектростанцию, а не наоборот[11]. Mutatis mutandis, можно даже заподозрить, что «системы искусственного интеллекта» — этим выражением пользуются авторы документа, демонстрируя своего рода здравое системное мышление (ср. AN 8; 30; 45–46; 53; 82; 9; 11; 31; 95; 99–100 и т. д.) — представляют собой или скоро будут представлять технологическую «экосистему» языка или технологии, которые скрыто, но тем действеннее влияют на наше отношение к миру и преобразуют окружающую среду, мировоззрение и культурную мысль в целом. Следовательно, такие системы по большому счету уже не могут считаться просто инструментами.
Второй вопрос, оставшийся открытым, связан с предыдущим, и он сугубо богословский. Antiqua et nova справедливо подчеркивает индивидуальную ответственность тех, кто занимается продвижением искусственного интеллекта (ср. AN 3; 34; 38–39; 42; 44–48; 53; 55; 69; 71; 74; 82; 93; 99; 105; 108-109; 111; 117). Ведь нельзя отрицать, что, строго говоря, только человек, поскольку он личность и свободное существо, несет ответственность за свои действия, добрые или злые, греховные или добродетельные, ошибочные или правильные.
Позиция авторов документа Antiqua et nova в этом отношении ясна[12]. Однако следует отметить, что семантическое поле понятия «грех» в современном нравственном богословии поступательно расширяется. С течением времени понятие так называемого «структурного греха» — эта синтагма обрела популярность в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века преимущественно благодаря латиноамериканским богословам освобождения, — преодолев сопротивление, уверенно обосновалась в богословском словаре[13]. Это значит, что, по крайней мере, в аналогическом смысле в некоторых ситуациях структуры тоже несут ответственность за грех, совершенный человеком: например, некто не может получить работу без разрешения мафии, тогда как от него зависит выживание семьи. Конечно, обстоятельства не снимают с человека индивидуальной ответственности — в собственном и первоочередном смысле грех — всегда личное действие[14], тем не менее нельзя отрицать — и «воплощенное» богословие должно это учитывать, — что бывают обстоятельства, предрасполагающие ко греху[15], равно как и обстоятельства, помогающие идти по пути добродетели. Первые по праву названы «греховными структурами», а вторые «благодатными»[16].
В таком случае нельзя ли применить категорию виновности к определенным формам искусственного интеллекта, как применяем к технологиям по производству наркотиков или оружия? И наоборот: нельзя ли применить аналогичную категорию «благодатности» к тем формам искусственного интеллекта, которые помогают людям вести более добродетельную жизнь и фокусироваться на Боге? А значит, не следует ли ожидать, что в ближайшем будущем появится богословское представление о «греховных» или «благодатных» системах искусственного интеллекта? Та же нота Antiqua et nova, по-видимому, допускает возможность развития вероучения в этом направлении, поскольку по крайней мере единожды использует с нажимом термин «структура» (AN 73) и часто говорит о «системах ИИ» (AN 8; 30; 45–46). Разумеется, главная цель документа, выпущенного ватиканским департаментом (в данном случае даже двумя), — не «опередить свое время», а предоставить руководство к действию. И нужно признать, что Antiqua et nova, по крайней мере в области «алгорэтики» (Паоло Бенанти), достигает этой цели безупречно.
* * *
Документ Antiqua et nova, выражая позицию Церкви, излагает веское и ясное мнение и, к счастью, не попадается в ловушку двух крайностей: с одной стороны, не преподает с оборонительных, апологетических позиций, не грозит пальцем; с другой — не преуменьшает опасность. То есть не поддерживает ни наивный прогрессизм, ни техно-пессимизм. Избегая противостояния между «реакционерами» (демонизируют ИИ) и некритичными оптимистами (обожествляют ИИ), составители документа занимают открытую позицию, с надеждой и осторожностью взирая на самое важное в нашей жизни новшество: революцию искусственного интеллекта[17]. Если верно — как утверждают многие авторы, — что развитие ИИ влечет за собой нечто большее, чем обычные риски и побочные эффекты, то есть если будущее человечества буквально зависит от отношения к этой теме, то можно утверждать, что Antiqua et nova представляет собой документ особой важности для Церкви. Тот факт, что Папа Лев XIV в своих первых речах уже упомянул ИИ, еще яснее указывает на важность проблематики, тесно связанной с человеческим достоинством и общим благом.
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Прочесть ноту можно здесь:
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20250128_antiqua-et-nova_it.html
[2] Ср. Ch. Barrone, Etica ed educazione alla pace: le sfide delle IA, в C. D’Antoni — A. Michieli (edd.), Intelligenze artificiali e pace, Roma, Ave, 2024, 43 сл.
[3] Напомним, что выражение «искусственный интеллект» применительно к дисциплине, известной нам сегодня, было впервые использовано 31 августа 1955 г., когда было запрошено финансирование в размере 13 500 долларов у Фонда Рокфеллера для проекта под названием «Проектное предложение для летних исследований искусственного интеллекта в Дартмуте»: ср. C. G. Ferrauto (ed.), Intelligenza Artificiale. Cos’è davvero, come funziona, che effetti avrà, Torino, Bollati Boringhieri, 2020, 27.
[4] Далее, с целью разъяснить семантическое поле ИИ, в документе сказано: «Выражение “искусственный интеллект” надо понимать как технический термин для указания на соответствующую технологию, помня, что этим выражением также обозначают область исследований, а не только прикладные результаты» (AN 35, nota 70). Таким образом, ИИ — только продукт человеческого ума, а не нечто, напрямую с ним сопоставимое (ср. AN 12: ИИ не креативен в смысле человеческой креативности и не способен «мыслить критически»).
[5] Фома Аквинский, св., Сумма теологии, II–II, q. 49, a. 5, ad 3.
[6] О понятии «ответственность» ср. AN 47; о триаде «свобода, ответственность и братство» ср. AN 48; об ответственности как подотчетности (accountability) ср. AN 53; об обязанности быть «хранителями и служителями человеческой жизни» ср. AN 71; об «общественной ответственности» ср. AN 93; и т. д.
[7] Термин «орудие» неоднократно встречается в тексте; ср. AN 59; 68: «орудие, а не личность»; AN 75–76; 81; 102: «ИИ следует использовать только как орудие, дополняющее человеческий ум и не подменяющее собой его богатство». Термин «средство» тоже встречается не раз; ср. AN 58; 104; а также 54; 63; 76.
[8] Ср. F. Patsch, Macchine coscienti? Riflessioni sulla cosiddetta “intelligenza artificiale”, в Civ. Catt. 2024 I 452–465.
[9] Мыслителям, занятым сегодня феноменологией и герменевтикой, ясно, что язык не только орудие. Согласно Хайдеггеру, язык никогда не бывает простым «выразительным средством» (Ausdrucksmittel), но он есть «откровение», «пояснение», «самооткровение» (ср. M. Heidegger, Da un colloquio nell’ascolto del linguaggio, в его же, In cammino verso il Linguaggio, Milano, Mursia, 1959, 83–125. Ганс-Георг Гадамер, ученик Хайдеггера, тоже усиленно подчеркивает тот факт, что язык — не фиксированная метафизическая система, заданная раз и навсегда, а динамичный посредник (medium) понимания, и он сам по себе заметно влияет на формирование нашей мысли (ср. H.-G. Gadamer, Verità e metodo, Milano, Bompiani, 2001, 441–447).
[10] Ср. M. Heidegger, Vorträge und Aufsätze, Klostermann, Frankfurt am Main, 2000, 15.
[11] Ср. там же, 16. Ср. C. Rentmeester, Heidegger and the Environment, London — New York, Rowman & Littlefield, 2016, 73; F. Patsch, Heideggerian Foundations in Pope Francis?, в J. Azetsop — P. Conversi (edd.), Foundations of Integral Ecology, Roma, Gregorian & Biblical Press, 2022, 371–378.
[12] Вот еще одна ясная цитата: «Как всякий продукт человеческого ума, ИИ можно использовать с добрыми или злыми целями. Когда его применяют с уважением к человеческому достоинству и ради благополучия индивидов и сообществ, он вносит вклад в исполнение человеком своего призвания. Однако, как и во всех областях, где люди принимают решения, зло бросает свою тень и сюда. Там, где человеческая свобода дает возможность выбрать зло, нравственная оценка этой технологии зависит от того, на что она направлена и как применяется» (AN 40).
[13] Согласно Катехизису Католической Церкви, «“Греховные структуры” — выражение и результат личных грехов. Они толкают свои жертвы в свою очередь совершать зло. По аналогии они являются “грехом социальным”» (№ 1869).
[14] В принципе, католическое нравственное богословие считает понятие «искусственных нравственных деятелей» (artificial moral agents) преувеличением, а потому, в узком смысле, не позволяет распространять понятие «ответственности» на ИИ (поскольку у него нет свободы выбора), разве только по аналогии.
[15] О понятии «греховные структуры», ср. S. Bastianel (ed.), Strutture di peccato, Una sfida teologica e pastorale, Casale Monferrato (Al), Piemme, 1989; M. Nebel, La catégorie morale du péché structurel. Essai de systematique, Paris, Cerf, 2006; U. Mauro, Peccato sociale, dissertazione dottorale presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Roma, 1986.
[16] О понятии «благодатная структура» или «социальная благодать», ср. R. Haight, The experience and Language of Grace, New York — Toronto, Paulist Press, 1979, 161–186. Хайт так актуализирует это понятие: «Семью — в той мере, в какой она питает своих членов и поощряет взаимную любовь — можно рассматривать как социальную модель существующей благодати. Еще один пример: волонтерские организации, работающие во благо другим людям, такие как больница или “Анонимные алкоголики”, можно считать институциональными формами любви, то есть проявлениями социальной благодати» (там же, 176).
[17] Ее можно считать последней волной промышленной революции. Ср. C. Perez, What Is AI’s Place in History?, в Project Syndacate 30 (2025) 26–31. О промышленных революциях: ср. Его же, Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages, Cheltenham (Regno Unito), Edward Elgar, 2002.