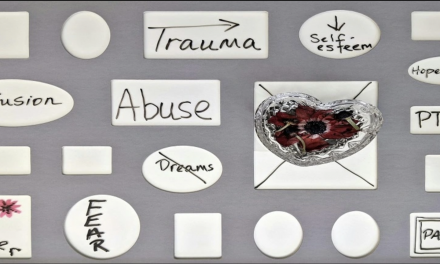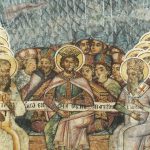Альберто Кано Аренас SJ
Введение
Добродетель «крепости» не самая популярная в работах о письменном наследии Терезы Авильской[1]. Как в исторических исследованиях, так и в тех, что рассматривают духовную сферу, этой добродетели до сих пор уделяли мало внимания. А между тем «крепость» — ключ к тому, как святая понимает Бога и человека: это понимание она демонстрирует по мере того, как описывает свой путь веры и наставляет других в духовной жизни. Для Терезы Бог — «Царь столь великий и всемогущий, что все Ему возможно и все подчинено»[2]. Конечная цель христианина, уповающего, что «не надо ничего бояться, если только […] мы ходим перед Ним по истине и с чистой совестью»[3], — «угодить Господу»[4] и «не оскорбить Его»[5].
Тексты св. Терезы не задуманы как богословский трактат или учебник по антропологии, хотя на выходе получается своего рода компендиум мистического богословия и духовной практики. Исполняя то, что она называет делом послушания духовникам[6] и сестрам в монастыре Св. Иосифа[7], Тереза пишет ряд текстов духовного характера на основе собственного опыта. Итак, она говорит о человеческой и божественной крепости (= силе), исходя из своего жизненного опыта и опыта веры. Именно опытом она обосновывает правомерность своего богопознания. Как подчеркивает исследовательница Елена Каррера, для Терезы «опытное знание […] выше знания мудрецов»[8]. В этом смысле, говоря о крепости, она фактически описывает собственный «поступательный процесс личного воплощения христианского события»[9].
Во всех своих работах Тереза снова и снова настойчиво подчеркивает огромную ценность крепости в жизни верующих. Об этой добродетели святая говорит во всех своих главных писаниях и ставит ее так высоко, что утверждает: по крайней мере в те времена, в какие ей, Терезе, довелось жить, «необходимы сильные друзья Божии»[10]. Крепость и общение с Богом — последнее как решительный ответ на Любовь Божию — в глазах Терезы тесно связаны.
Так почему эта добродетель столь важна для кастильской святой XVI века? Что она понимает под «крепостью»? Какую роль играет и какое значение имеет эта добродетель в жизни и трудах кармелитки, реформировавшей свой орден? Что нам говорит эта добродетель о том, как св. Тереза понимает человека, и о ее опытном богопознании? Вот основные вопросы для нашего размышления на этих страницах. Постараемся показать, что крепость — одна из центральных добродетелей в имплицитной антропологии и духовном богословии Терезы Авильской.
Значения слова «крепость» в работах Терезы Авильской
Термин «крепость» находим 63 раза в главных писаниях Терезы, исключая письма. На первом месте по количеству книга Жизнь (29 раз), далее следуют Внутренний замок (9 раз), Путь к совершенству (7 раз), Основания и Мысли о Любви Божией (по 6 раз) и, наконец, Духовные сообщения и Восклицания души к Богу (по 3 раза). А эквиваленты «сила» или «силы», работающие почти как синонимы для «крепости», встречаются 307 раз во всех Терезиных писаниях. Частотность употребления в каждом из них выстраивается примерно по той же схеме, что и в случае с понятием «крепость»: 87 раз в Жизни, 38 во Внутреннем замке, 31 в Пути совершенства и Основаниях, 17 в Духовных сообщениях, 6 раз в Восклицаниях души к Богу и 50 раз в письмах Терезы.
А прилагательное «сильный» встречается 96 раз во всех писаниях св. Терезы (26 в Жизни и 17 в Пути совершенства). И есть много других терминов и глаголов из того же семантического поля: постоянство, решимость, расположение, упражняться, усилие, стойкость, твердость, терпение, упорство, энергия, сопротивляться. Все они тесно связаны с категорией крепости, как по причине близкого соседства в тексте, так и в силу семантической корреляции.
В то же время в писаниях Терезы есть еще один интересный ряд понятий, противоположных «крепости» и прочим вышеназванным терминам. Это новый элемент для размышления о важности «крепости» в мысли кастильской святой. Вот некоторые из наиболее значимых слов этого ряда: слабый, слабость, ослабить, вялый, вялость, лень, хрупкий, хрупкость, преграда, посредственность, страх, беда, малодушие, боязнь, равнодушие (или равнодушный).
Причем в четырех из 63 случаев употребления термина «крепость» его смысл отличается от того, какой мы здесь рассматриваем, и в этих четырех случаях имеется в виду «укрепленное ограждение»[11]. Так, в книге Основания один раз речь идет о части реального замка Малагон[12]; еще в трех случаях «крепость» метафорически означает самую возвышенную часть человеческой души[13]. В остальных 59 случаях употребления этого термина Тереза его не определяет, но использует в трех основных значениях. Во-первых, как синоним добродетели вообще, он означает постоянство, твердость, мощь или мужество; вдобавок, когда она говорит о добродетели, то обычно подразумевает крепость или силу, что свидетельствует о важности данного понятия. Во-вторых, и в тесном соотношении с предыдущим значением, Тереза применяет этот термин к одной из кардинальных добродетелей — мужеству. В-третьих, использует его как адъективацию других добродетелей или способностей души, то есть или при их идентификации, или в смысле их поступательного роста.
Особый интерес вызывает первое значение, в каком Тереза использует термин «крепость», почти равнозначно термину «добродетель». В начале XVII века лексикограф Себастьян де Коваррубиас в своей работе «Сокровищница кастильского, или испанского, языка» (Tesoro de la Lengua Castellana o Española) определил «крепость» как «мужество, доблесть, постоянство, твердость, терпение и мощь»[14]. А 100 лет спустя словарь Diccionario de autoridades Испанской королевской академии очень сходным образом определяет «добродетель»: «Сила, мощь, мужество, власть действовать; расположение духа или честная склонность действовать согласно правильной причине, так что совершающий эти действия заслуживает похвалы; склонность и расположение духа к действиям, сообразным христианскому закону и направленным на блаженство»[15]. Оба определения дают представление о смысле терминов «крепость» и «добродетель» во времена Терезы. Кроме того, надо отметить, что значение добродетели как склонности со всей очевидностью укоренено в аристотелевско-томистских концепциях, а они в то же время согласуются с тем представлением о добродетели, какое Тереза очерчивает в своих писаниях, как увидим в дальнейшем.
Второе значение, очень близкое к предыдущему, обретаемое категорией крепости в работах Терезы, подразумевает классическое понятие конкретной кардинальной добродетели. В соответствии со своей успешной риторической стратегией «парадоксальной самопрезентации»[16], — которая, по сути, представляет собой «центральный парадокс христианства: тот факт, что Бог превозносит смиренных»[17], — Тереза не раз описывает себя как «слабую, малодушную и совершенно незначительную […]; к тому же я женщина, жалкая и малодушная»[18]. Иными словами, она считает себя «ничтожной и совсем без сил [fortaleza]»[19], то есть она лишена той кардинальной добродетели, какая в ее понимании служит общим именем для добродетелей.
Так, вместе с благоразумием, справедливостью и умеренностью, — которые появляются в том или ином виде в разных местах Терезиных текстов, — крепость представляет собой категорию, подразумевающую прочие личные добродетели, названные Терезой: в особенности терпение, настойчивость, великодушие, — согласно Фоме Аквинскому, это подчиненные добродетели или потенциальные части крепости, — или смирение, подчиненная добродетель или потенциальная часть умеренности.
Еще одну причину понимать крепость как кардинальную добродетель в работах Терезы, то есть как «начало и корень прочих добродетелей», нам предлагает определение из словаря Diccionario de autoridades: «Кардинальная добродетель» есть та, что «располагает дух к ужасным предметам, и к любви, и к героическим поступкам, так что дух не трусит перед ними, но и не бросается в них неосмотрительно, а потому не уклоняется от того, что признает правильным, сколь бы трудным, тяжким и ужасным ни было дело»[20]. Иными словами, вот какую добродетель представляет собой крепость: «Когда сердце столь сильно и отважно, что не поддается искушениям и не устает творить добрые дела»[21]. В этом смысле Тереза решительно настаивает на необходимости преодолевать трусость, искушения, непостоянство и страхи, какими злой дух пытается обмануть тех, кто намерен служить Богу. Итак, святая высоко ценит решимость встретить лицом к лицу «муки», неизбежные на духовном пути, который есть ответ Богу, возможный по благодати Божией.
Наконец, Тереза, как уже было сказано, использует термин «крепость» как эпитет к другим добродетелям или способностям души. Она придает большое значение укреплению добродетелей, то есть возрастанию в них. Так, увещевая монахинь в монастыре Св. Иосифа исследовать себя на предмет смирения и рассматривать искушения против этой добродетели как путь роста в духовной жизни, она пишет: «Невозможно смиренному, когда его искушают, не продвинуться к большему смирению и в нем не укрепиться»[22]. А в Мыслях о Любви Божией она утверждает, что бывают минуты, когда душа, дружественная Богу, «не видит доброго Учителя, тем самым ее наставляющего, но понимает, что Он с нею. И так она получает прекрасное наставление, с такой большой пользой и с таким стремлением к добру, что уже себя не признает и не хочет ни говорить, ни делать ничего иного, кроме как хвалить Господа»[23]. В том же сочинении она увещевает: «Итак, не будем тревожиться о своих страхах и терять мужество из-за своей слабости. А лучше постараемся укрепиться в смирении»[24].
Святая описывает крепость как качество способностей души также и в работе Путь к совершенству. В частности, она апеллирует к сильному «здравому смыслу», который направлен к добру: «Человек со [здравым] смыслом, едва начнет испытывать расположение к добру, видя его полезность, крепко к нему привязывается»[25]. Также она упоминает «силу», которая иногда дается уму через «одно единственное слово из тех, что я обычно слышу, видение, сосредоточение настолько краткое, сколько длится Ave, Maria, или через причастие»[26]. А говоря о молитве в тишине, Тереза пишет о крепости, которой обладает воля, призывающая без усилия ум, когда тот отвлекается на мирские предметы; но об уме она говорит, что, если молящийся «захочет сосредоточить его насильно, то утратит влияние [fortaleza], какое имел на него»[27].
Первенство «Божественной чести»
Идею «крепости» в корпусе писаний св. Терезы можно верно истолковать только с учетом того, как она понимает конечную цель человека, а это — честь Божия. В самом деле, «ни чести, ни жизни, ни славы, никакого иного блага душевного и телесного — не хочу, не желаю больше ничего, кроме славы Божией»[28]. Эта перспектива четко обозначена и в важном Духовном свидетельстве, адресованном Алонсо Веласкесу, епископу Осмы. Иезуит Андре Бруйет называет этот текст «последним завещанием Терезы», поскольку здесь описана «заключительная фаза богословского и экзистенциального пути Терезы в год перед смертью»[29]. Этот текст важен еще и потому, что в нем святая «открывает душу [Алонсо Веласкесу] вполне по-дружески» и «ясно описывает духовную атмосферу, в какой пребывает»[30]. Тереза демонстрирует свое внутреннее состояние, когда восклицает: «О, если б я могла дать вам познать мир и покой, в каком сейчас моя душа…»[31] Тереза усиленно и настойчиво подчеркивает, что «делает все в честь Бога, чтобы лучше исполнить Его волю и к вящей Его славе»[32].
Однако эта решимость не всегда проста и не дается автоматически. Тереза, исходя из собственного опыта, многократно предостерегает от увлечения мирской честью, называя ее «темным пятном чести»[33]. В противовес этой мирской чести — «одушевляющей социальное поведение в Кастилии во второй половине XVI века»[34] — Тереза неустанно проповедует смирение: путь к прославлению и чести Бога. Напряжение между этими двумя полюсами отражено уже в первых главах книги Жизнь, где Тереза восклицает: «Насколько лучше было бы мне иметь столько же силы, чтобы не попирать честь Божию, сколько я употребила, лишь бы не утратить то, что почитала мирской честью!»[35] Далее она подчеркнет: хотя «я протестовала, готовая сделать все, лишь бы не обидеть Бога», «эта тяжкая нерешительность […] происходила от недостатка силы [fortaleza]»[36]. Но охотнее всего Тереза говорит о «средствах, какими Господь начал потрясать ее, укреплять и просвещать в ее тьме, дабы она впредь не оскорбляла Его»[37].
Одна из самых значимых целей Терезиных писаний — предоставить человеку, на разных этапах духовного пути, инструменты, которые его укрепят для вступления в союз с Иисусом Христом, все более глубокий и полный[38]. Поэтому в текстах Терезы «Божественная честь» обозначена двумя очень точными выражениями, внутренне связанными: с одной стороны, угодить Богу, то есть ходить «перед Ним в простоте и с намерением угождать не людям, а Богу»[39]; с другой стороны, не оскорбить Бога. Святая пишет: «Будем беспрестанно молить Господа, да не дозволит искушению достичь такой силы, чтобы оно принудило нас оскорбить Его, но пусть Он соразмерит искушение с той силой, какую даст нам для победы»[40]. Желание Терезы — жить все совершеннее, а это подразумевает идею о степенях совершенства, о чем мы еще поговорим. Итак, согласно кармелиту Антонио Гонсалесу Лопесу, «для нее фундаментальный критерий движения вперед по духовному пути — намерение не оскорблять Бога и искать Его воли»[41].
Как уже было сказано, для Терезы конечную цель человеческой жизни составляет честь и слава Божия. Иными словами, святая усматривает четкую направленность в отношениях между Богом и человеком. Для нее неоспоримая отправная точка — бескорыстное прославление Бога человеком, то есть служение Богу. В книге Жизнь Тереза говорит о своем уповании на «Того, Кто знает все… Его верховная щедрость глядела не на мои грехи, а на желание служить Ему и на огорчение от нехватки силы на это»[42]. Кроме того, для нее молитва — несомненный конкретный способ славить Бога и путь любви, где также подчеркнуто Божественное первенство[43]: «Вступить на дорогу молитвы» значит «быть служителями любви»[44], — пишет Тереза немного далее в той же книге. Святая называет признаки любви: «Твердо решиться угождать Ему во всем, прилагать все усилия, чтобы не оскорбить Его, молиться о приращении чести и славы Его Сына и о возвышении Католической Церкви»[45]. Поэтому, согласно Терезе, две идеи — прославление Бога и любовь к людям — тесно связаны.
Все это подразумевает (интересно отметить сходство с мыслью Игнатия Лойолы), что прославление Бога есть первый шаг в отношениях между человеком и Богом, а второй шаг состоит в том, что человек, ища славы Божией, найдет окончательный смысл своей земной жизни и нерушимую радость в жизни вечной. Выше мы цитировали книгу Основания, где изложена аргументация против трусости; там же Тереза отмечает, что у нее на духовном пути есть иерархическая система целей: «Полнее угождать нашему Супругу и скорее встретиться с Ним»[46]. То есть первое — угодить Богу, а счастье человека приходит после. Святая говорит об этом очень ясно: «Целью всех его трудов должно быть уже не собственное удовлетворение, но довольство Господина»[47]. Поэтому на первом месте не собственная слава, не самореализация, не личное развитие верующего, не его личный героизм и даже не духовный рост: первым, в Терезиной концепции, должно быть старание согласовать свою волю с тем, что ведет к Божественной чести. И так надо поступать просто для того, чтобы воздана была слава Богу[48].
С точки зрения Терезы, в отношениях между человеком и Богом есть восходящее движение, берущее начало из старания человека угодить Творцу и не оскорбить Его, то есть почтить. Таким образом, не получится некритично утверждать, будто Тереза в толковании отношений между Богом и человеком забывает о первенстве воздаяния славы Богу или просто приравнивает его к счастью и самореализации человека. В этой перспективе понятие «крепости» у Терезы обретает смысл как решительный любовный ответ человека Богу.
«Тягчайшие горести и жесточайшие беды этой жизни»
Жизнь, как ее понимает Тереза, непременно включает в себя трудности и страдания. «[Души] которым Бог посылает такие небесные милости […] по моему мнению, так или иначе должны подвергнуться земным страданиям»[49], — утверждает Тереза на продвинутом этапе духовной жизни, в Обители шестой. Итак, именно в этих рамках крепость обретает высшую значимость, именно исходя отсюда мы и должны ее толковать. Сама Тереза рассказывает о многих трудностях, с какими столкнулась и должна была справляться в своей жизни. Эти «муки», как сама она их называет, бывают разных родов. С одной стороны, есть те, что происходят от болезни и физической боли, сопровождавших Терезу много лет. С другой — от людского непонимания: особо показательно страдание при общении с некоторыми ее духовниками, богословами, настоятелями, монахинями реформированных ею монастырей и с кем-то из благодетелей[50].
«Гонения и страдания»[51], сопровождавшие Терезу в течение всей жизни, несомненно, имели место с самого начала ее реформаторских трудов, о чем сама она сообщает, когда рассказывает об основании монастыря Св. Иосифа в Авиле[52]. Святая осознавала, что ее монахиням — группе молящихся женщин в Испании XVI века — могут грозить опасности. Поэтому в книге Путь к совершенству она постоянно призывает сестер преодолевать страхи и препятствия, а также возрастать в свободе (с «отрешенностью»[53]). Тереза настойчиво защищает право женщин участвовать в такой молитве, какую она предлагает. Поэтому Тереза подчеркивает: для достижения совершенства, на которое нацелена ее реформа, «следует принять твердое и непоколебимое решение никогда не останавливаться, пока не достигнешь того источника»[54].
Но представляется, что самыми драматичными и болезненными «муками» были те, что встречаются в духовной жизни. В книге Основания она пишет: «Одна из тягчайших горестей и жесточайших бед этой жизни — когда она [душа] не имеет сил вырваться из ее власти. Без сомнения, тяжелы страдания от недугов и сильных болей, но, если душа свободна, это пустяк […]. Однако ужасно чувствовать себя бессильным»[55].
А говоря о пути духовного роста, святая восклицает, горестно и вместе с тем восхищенно, в том эсхатологическом напряжении души, которое присутствует уже в Обители шестой[56]: «О, Боже мой!.. Какие мучения, внутренние и внешние, придется перенести, прежде чем вступишь в седьмую обитель!»[57]
Нам также известно, что Тереза прошла через сильные искушения и мрачные периоды. Особо знаменита и трудна темная ночь, описанная в Обители шестой Внутреннего замка. Описание предварено восклицанием: «О Господи… Как Ты стесняешь любящих Тебя!»[58] Однако, в отличие от Иоанна Креста, Тереза использует образ не ночи, а любовной раны: «Душа уже ранена любовью к Жениху»[59], — пишет Тереза. Надо полагать, что этот опыт присущ зрелой духовной жизни, потому что Тереза называет его «дивной мукой»[60]. А поскольку для нее духовная жизнь тесно связана с любовью, во взрослой жизни любовь и отсутствие любви (радость и скорбь, рай и ад) идут вместе, одно отсылает к другому.
Помимо этого опыта мистической тьмы, очень часто святая рассказывает о периодах сильного страха и трепета, весьма успешно преодолеваемых церковными средствами (такими как святая вода[61]). Страхи нередко терзают Терезу, и по разным причинам. Из самых значительных — «боязнь чести»[62] и страх «обмануть людей»[63] (прежде всего монахинь, с которыми она живет в монастыре). Однако страх играет особо важную роль на ее молитвенном пути. С самого начала книги Жизнь Тереза говорит, что «боится Бога»[64]: то есть боится не послужить Ему, «не угодить Господу»[65], боится, что «оскорбила Господа»[66]. По-видимому, из ее страхов это самый сильный, недаром она утверждает, что не подобает «ходить в унынии и поддаваться иному страху, нежели страх оскорбить Бога»[67].
Часто встречается и боязнь духовно обмануться, то есть не распознать верно исток своего духовного опыта. Опасность самообмана — общее место и в книге Жизнь, и в Основаниях: Тереза боится, что «ее опыт и видения происходят не от Бога, а от диавола»[68]. Это подозрение сопровождает молитву Терезы, хотя остается открытым вопрос: возможно, этот великий страх — не более чем риторический прием?[69] Как бы то ни было, она сообщает, что боится обмануть саму себя: не исходит ли ее опыт от злого духа (беса), или это плод собственных внутренних переживаний, то есть она сама его производит? Но и многие из тех, с кем она говорила о своей духовной жизни, разделяли это подозрение. Поэтому Тереза долгое время молила «Господа вести меня более надежной дорогой, поскольку, как мне говорили, моя выглядела слишком подозрительно»[70].
В Восклицаниях души к Богу — где описан духовный опыт, очень интенсивный в эмоциональном и интеллектуальном плане — даже пылкое желание быть с Богом сопровождается моментами сильного страдания, терзания и сомнений. Происходят они, по-видимому, от изумления, вызванного резким несоответствием между величием, могуществом, силой и милосердием Бога и малостью, скудостью, слабостью и неблагодарностью человека, а значит и самой Терезы. Святая описывает свои отношения с Богом такими словами, как счастье, радость, наслаждение, но прежде всего — отдохновение от беспокойства, стихающего только в богопознании, любви, радости, в единстве души с волей Божией[71]. Но вместе с этой радостью душа боится, что не сможет угодить Богу во всем[72], и страдает, потому что люди не распознают Божьего величия[73]. Сомнения в собственной близости к Богу, равно как и скорбь о времени, потерянном вдали от Него, и о том, что не служила Ему всеми силами в прошлом, опять-таки занимают много места в этой книге.
В то же время Тереза осознает, откуда берутся эти страхи: порой «мне кажется, что мною […] более движет рабский страх, чем любовь»[74]. Возможно, именно поэтому после второго обращения[75] и после опытного постижения человеческой природы Иисуса Христа страх и подозрительность начинают шаг за шагом отступать. Эта «перемена» совершается в то время, когда возрастает ее упование на могущество Божие и она распознает, что ее мистический опыт, что бы ни думали другие, исходит от доброго духа. И тогда душа Терезы наполняется силой, миром и уверенностью. Хотя страх иногда продолжает терзать ее, но уже не оказывает столь негативного влияния, скорее позитивное, поскольку позволяет избегать почестей и ходить смиренно.
Кроме того, Тереза оказалась способна на очень важный духовный шаг; среди мучений, горестей, усилий и испытаний она распознает промыслительную руку Божию: «Господь дарует ей выйти оттуда с победой, во славу и в честь Его имени»[76], — говорит Тереза. Даже в этих скорбях Бог действует и являет Себя. Святая прямо утверждает, что Бог дает ей силу «выдержать испытания, каким Он пожелал меня подвергнуть»[77]. В этом духовном расположении Тереза сочетает в себе «аскетизм и полное доверие к Божьему провидению»[78]. Этот баланс воспроизводится и в практических аспектах жизни основанных ею монастырей, например в экономической сфере. Об этом историк Джоди Билинкофф пишет так: «Тереза настаивала, что она и ее монахини должны полностью зависеть от плода своих трудов и от уверенности в том, что Бог побудит людей подавать милостыню им на пропитание»[79]. Это факт: Тереза всецело уповает на Провидение Божие. Напряжение между аскезой и упованием, в каком-то смысле даже эсхатологическое, пронизывает всю книгу Оснований. Так, когда она однажды ночью молилась в глубокой скорби, Бог сказал ей: «Дочь, подожди немного, и ты увидишь великое»[80]. Чем дальше читаешь книгу, тем яснее видно, как это Божье обещание исполняется среди тяжких трудов и бедствий. Аскезу и упование можно назвать фундаментом Терезиной крепости.
Наряду с провиденциальным элементом, можно предположить, что концепция крепости как добродетели в основных писаниях Терезы восходит также и к стоической традиции с ее апатией. Аскетическая практика в обращении с эмоциями, сопряженная с этой идеей, представляет собой своего рода крепость, нацеленную опять-таки на воздаяние чести Богу. Это согласуется с идеалом совершенства, начертанным Терезой: стать верующим, глубоко смиренным, настойчивым, терпеливым, постоянным и решительным. Святая пишет об этой крепости стоического типа в своей знаменитой максиме, ассоциируя ее с упованием на Божье провидение: «Пусть ничто тебя не тревожит, / ничто не печалит; / все исчезает, / Бог неизменен»[81].
Заключение
Тереза не чуждается крепости; напротив, просит о ней в молитве, проповедует ее в своих писаниях и принимает как благодать Божию, необходимую для служения Славе Божией. Иными словами, хотя святая много раз упоминает о своей скудости, нищете и слабости, за всеми ее текстами стоит такой образ мыслей, в котором крепость отнюдь не нечто подозрительное, от чего надо уклоняться. Наоборот, стилю ее высказываний присуща сила, какую в культурной, религиозной и лингвистической среде той эпохи ожидаешь, скорее, встретить у мужчин[82].
Крепость св. Терезы — человеческая и духовная добродетель, необходимая для того, чтобы с любовью ответить на любящий призыв Бога. В этом смысле крепость — ключевой элемент Терезиной имплицитной антропологии, богословия и духовности. Крепость, как ее понимает Тереза, сегодня может стать ценным подспорьем для верующих, если они хотят осмыслить, надежно и смиренно, свою идентичность и свою жизнь.
В глазах Терезы верующий — сильный человек. Но эта сила не гордыня, а смирение. Понятие «крепости» у Терезы перекликается с Павловыми мыслями о силе во всей их парадоксальности: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами» (2 Кор 12, 9); «Когда я немощен, тогда силен» (2 Кор 12, 10); «Все могу в укрепляющем меня» (Флп 4, 13).
Крепость, так понимаемая, — необходимое условие для жизни по вере. Именно в этом смысле Тереза наставляет: пусть «царит эта святая уверенность, ведущая […] к дарам того Бога, Который помогает великодушным [fuertes]»[83]. Пусть крещеные стараются быть достаточно сильными и достаточно смиренными, чтобы их жизнь в полной мере воздавала честь Богу. И пусть укрепляются духовно, чтобы служить все больше и лучше Господу Христу.
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Цитаты из работ св. Терезы в этой статье взяты по изданию: S. Teresa di Gesù, Opere, Roma, Postulazione generale O.C.D., 1969. В дальнейшем это издание будет обозначено в примечаниях как op. cit.
[2] Тереза Авильская, св., Жизнь, 26,1 (op. cit., 251).
[3] Там же.
[4] Там же, 23, 5 (op. cit., 224).
[5] Там же, 9, 1 (op. cit., 100).
[6] Ср. там же, 1 (op. cit., 39); Внутренний замок, 1, 1 (op. cit., 760); Основания, пролог, 1–2 (op. cit., 1071 сл.).
[7] Ср. Тереза Авильская, св., Путь к совершенству, пролог, 1 (op. cit., 539).
[8] E. Carrera, Teresa of Avila’s Autobiography: Authority, Power and the Self in Mid-Sixteenth-Century Spain, Londra, Modern Humanities Research Association and Routledge, 2005, 42.
[9] M. Maury Buendía, Puntos clave en la interpretación teológica de la experiencia teresiana de la gracia, в Monte Carmelo 95 (1987) 284.
[10] Тереза Авильская, св., Жизнь, 15, 5 (op. cit., 150).
[11] Recinto fortificado, в Real Academia Española, Diccionario de autoridades, Madrid, Gredos, 1969.
[12] Ср. Тереза Авильская, св., Основания, 9,4 (op. cit., 1137).
[13] Ср. ее же, Восклицания души к Богу, 16, 3 (op. cit., 1059); ее же, Внутренний замок, Обитель третья, 1, 2 (op. cit., 787); Жизнь, 18, 4; 20, 22 (op. cit., 172; 198).
[14] S. de Covarrubias y Orozco, Tesoro de la Lengua Castellana o Española según la impresión de 1611, con las adiciones de Benito Remigio Noydens publicadas en la de 1674, Barcellona, S. A. Horta, 1943.
[15] Real Academia Española, Diccionario de autoridades, цит.
[16] Ср. B. Mújica, Teresa de Ávila, Lettered Woman, Nashville, Vanderbilt University Press, 2009, 64.
[17] G. T. W. Ahlgren, Teresa of Avila and the Politics of Sanctity, Ithaca – London, Cornell University Press, 1996, 83.
[18] Тереза Авильская, св., Жизнь, 18,4 (op. cit., 172).
[19] Там же, 11,14 (op. cit., 119).
[20] Real Academia Española, Diccionario de autoridades, цит.
[21] Там же.
[22] Тереза Авильская, св., Путь к совершенству, 12, 6 (op. cit., 593).
[23] Ее же, Мысли о Любви Божией, 4, 3 (op. cit., 1009).
[24] Там же, 3, 12 (op. cit., 1006).
[25] Ее же, Путь к совершенству, 14, 2 (op. cit., 600).
[26] Ее же, Духовные сообщения, 1, 12 (op. cit., 448).
[27] Ее же, Путь к совершенству, 31, 10 (op. cit., 687).
[28] Ее же, Духовные сообщения, 1, 13 (op. cit., 449).
[29] A. Brouillette, Teresa of Avila, the Holy Spirit, and the Place of Salvation, Mahwah, Paulist Press, 2021, 195.
[30] Там же, 196.
[31] Тереза Авильская, св., Духовные сообщения, 6, 1 (op. cit., 479).
[32] Там же (op. cit., 479 сл.).
[33] Ее же, Жизнь, 31, 23 (op. cit., 315).
[34] T. Egido, The Historical Setting of St Teresa’s Life, в Carmelite Studies 1 (1980) 150.
[35] Тереза Авильская, св., Жизнь, 2, 3 (op. cit., 47).
[36] Там же 23, 4 (op. cit., 224).
[37] Там же, 9, 1 (op. cit., 100).
[38] Ср. ее же, Основания, 4, 4 (op. cit., 1100 сл.).
[39] Ее же, Жизнь, 10, 4 (op. cit., 108 сл.).
[40] Ее же, Путь к совершенству, 41, 1 (op. cit., 738).
[41] A. González López, Discernimiento espiritual en las «Meditaciones sobre los Cantares» de Santa Teresa de Jesús, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2020, 17.
[42] Тереза Авильская, св., Жизнь, 7, 18 (op. cit., 89).
[43] «Когда Господь хочет, в один миг понимаешь все», — говорит Тереза в книге Жизнь, 12, 6 (op. cit., 126).
[44] Тереза Авильская, св., Жизнь, 11, 1 (op. cit., 112).
[45] Ее же, Внутренний замок, Обитель четвертая, 1, 7 (op. cit., 805).
[46] Ее же, Основания, 4, 4 (op. cit., 1101).
[47] Ее же, Жизнь, 11, 10 (op. cit., 117).
[48] Это положение согласуется с католическим догматом, как явствует, например, из догматической конституции Dei Filius (1870) I Ватиканского Собора о католической вере.
[49] Ее же, Внутренний замок, Обитель шестая, 1, 2 (op. cit., 856).
[50] Ср. M. J. Carravilla Parra, Santa Teresa de Jesús: episodios singulares de una mujer universal, в F. Trullén Galve — J. A. Calvo Gómez — S. Gallardo González (edd.), In Virtute Fortitudo. Protagonismo femenino en la época de Isabel la Católica, Madrid, Dykinson, 2022, 86.
[51] Тереза Авильская, св., Жизнь, 33, 4 (op. cit., 331).
[52] Ср. ее же, Основания, 18, 4 (op. cit., 1204); Жизнь, 33 (op. cit., 329 сл.).
[53] Ср. ее же, Путь к совершенству, 8, 1; 9, 4; 15, 7; 16, 2 (op. cit., 578; 582; 605; 607).
[54] Там же, 21, 2 (op. cit., 635).
[55] Ее же, Основания, 29, 3 (op. cit., 1322).
[56] Ср. E. Newman, Outside the castle walls: the public politics of Teresa’s vision, в W. J. Collinge (ed.), Faith in Public Life, Maryknoll, NY, Orbis, 2008, 69.
[57] Тереза Авильская, св., Внутренний замок, Обитель шестая, 1, 1 (op. cit., 856).
[58] Там же, Обитель шестая, 11, 6 (op. cit., 930).
[59] Там же, Обитель шестая, 1, 1 (op. cit., 855).
[60] Там же, Обитель шестая, 2, 6 (op. cit., 866 сл.).
[61] Ее же, Жизнь, 31, 4 (op. cit., 303).
[62] Там же, 2, 5 (op. cit., 48).
[63] Там же, 7, 1 (op. cit., 79).
[64] Там же, 2, 5 (op. cit., 48).
[65] Там же, 2, 7 (op. cit., 49).
[66] Там же, 5, 10 (op. cit., 70).
[67] Там же, 26, 1 (op. cit., 251).
[68] J. Bilinkoff, The Avila of Saint Teresa: Religious Reform in a Sixteenth-Century City, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1989, 118.
[69] Ср. C. Slade, St. Teresa of Avila: Author of a Heroic Life, Berkeley, University of California Press, 1995, 74.
[70] Тереза Авильская, св., Жизнь, 27, 1 (op. cit., 256).
[71] Ср. ее же, Восклицания души к Богу, 17, 6 (op. cit., 1062).
[72] Ср. там же, 1, 3 (op. cit., 1038).
[73] Ср. там же, 8–12 (op. cit., 1046 s.).
[74] Ее же, Жизнь, 3, 6 (op. cit., 53).
[75] Ср. там же, 23, 1–2 (op. cit., 222 сл.).
[76] Ее же, Жизнь, 36 (op. cit., 362).
[77] Там же, 14, 11 (op. cit., 119).
[78] J. Bilinkoff, The Avila of Saint Teresa: Religious Reform in a Sixteenth-Century City, цит., 123.
[79] Там же, 123.
[80] Тереза Авильская, св., Основания, 1, 8 (op. cit., 1079).
[81] Ее же, Стихи, 9 (Максимы) (op. cit., 1511).
[82] Ср. ее же, Мысли о Любви Божией, 3, 5 (op. cit., 1002 сл.); O. M. Espín, Women, Sainthood, and Power: A Feminist Psychology of Cultural Constructions, Lanham, Lexington Books, 2020, XXII.
[83] Тереза Авильская, св., Путь к совершенству, 16, 12 (op. cit., 611).