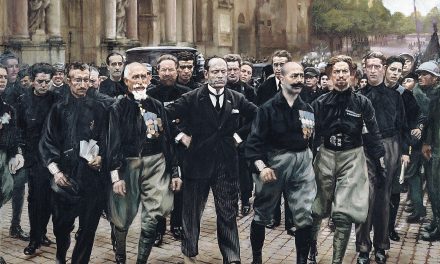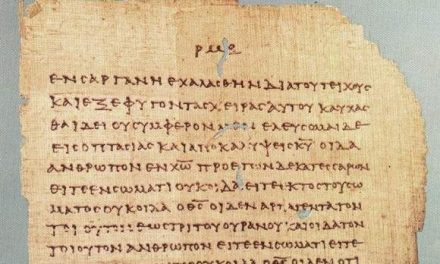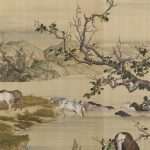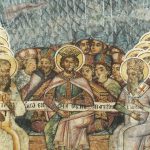Грегуар Катта SJ
16 апреля 2016 года Папа Франциск посетил остров Лесбос в Греции — ворота в Европу для тысяч беженцев. Возвращаясь обратно, взял с собой три сирийских семьи. Вот ярчайший символ того, к чему Папа постоянно призывает Европу, а особенно верных членов своей Церкви: принимать бегущих от смерти, от войны в родной стране, не оставаться равнодушными перед лицом беспрецедентной гуманитарной катастрофы. В ходе интервью в самолете на вопрос, почему были выбраны эти мусульманские семьи, а не христианские, Папа ответил: «У этих трех семей бумаги в порядке, документы в порядке, можно их забрать. А были, например, две христианские семьи в первом списке, но бумаги у них не в порядке. Это не привилегия. Все двенадцать — дети Божии. “Привилегия” — быть детьми Божиими»[1]. Итак, оказывая гостеприимство, нужно учитывать, как обстоят дела с документами, нужно соблюдать правила, и Папа подчеркивает, что правила были соблюдены.
В этих образах и немногих словах отражено напряжение, возникающее в Церкви, когда речь идет о мигрантах и беженцах. С одной стороны, Церковь настаивает на обязанности принимать беженцев и вообще постоянно напоминает, что у человека есть право мигрировать. С другой стороны, ради общего блага, она признает, что государство уполномочено контролировать принятие иностранцев и регулировать миграцию законами. Процитируем Энцо Бьянки: с одной стороны, «всегда сердцевиной христианской этики было оказание гостеприимства чужестранцу, паломнику, скитальцу, потому что с ними отождествил Себя Господь: “Был странником, и вы приняли Меня” (Мф 25, 35)»; с другой же стороны, «надо признать, что у гостеприимства есть границы: не те, что продиктованы эгоизмом, который забаррикадировался в собственном благополучии и закрыл глаза и сердце перед страдающим ближним, но границы, очерченные реальной возможностью “предоставить место” другим людям, объективные границы, пусть даже их можно расширить, если есть серьезное и ясное намерение, и все же это границы»[2].
Напряжение между правом мигрировать и обязанностью принимать, с одной стороны, и границами и правом регулировать миграцию, с другой, способно парализовать того, кто желает идти путем гостеприимства. Неужели Церковь противоречит сама себе, утверждая одновременно, что мы обязаны принимать, но и вправе этого не делать? А если в одной речи два заявления противоречат друг другу, то ею все можно оправдать, и она уже не ориентир для поведения. Однако дело обстоит ровно наоборот. Социальное учение Церкви — именно потому, что напряженные моменты из него не исключены — служит ценным ресурсом для тех, кто идет путем гостеприимства: гостеприимство обосновано и затребовано Христом, но не идеализировано и не возведено в абсолют.
Исследовав ряд церковных документов на тему миграции и принятия мигрантов, мы в первую очередь постараемся показать, как менялся подход к миграции и, в частности, как усложнялся сам вопрос. В этой картине постоянное напоминание о праве мигрировать и об обязанности принимать отнюдь не звучит наивно или идеалистично. Однако мы также увидим, что упоминание о возможных ограничениях, причем разнообразных, учащается.
Пий XII и «Exsul Familia»
В 1912 году Пий X учредил специальное ведомство по эмиграции, чьей главной задачей было сопровождать священников, переселявшихся вместе со своими верными в ходе больших миграций из Европы в Америку. В 1952 году Пий XII опубликовал апостольскую конституцию Exsul Familia (EF)[3], первую хартию пастырского попечения о мигрантах. Рассуждение Папы выстроено с учетом актуальных обстоятельств: многочисленные католики-европейцы эмигрируют, и Церковь должна продолжать свою пастырскую заботу о них. Миграция рассматривается как явление само по себе очень позитивное, поскольку она позволяет лучше распределять земные блага, прежде всего саму землю, чтобы все человечество могло жить и развиваться. «Неизбежно некоторые семьи, эмигрируя из тех или иных мест, ищут себе новую родину. Итак, согласно учению энциклики Rerum Novarum, надлежит соблюдать право семьи на жизненное пространство. Там, где это произойдет, эмиграция достигнет своей естественной цели, часто подтверждаемой на опыте, то есть более благоприятного распределения людей по земной поверхности, обустроенной для сельского хозяйства, — по земле, которую Бог сотворил для всеобщего пользования» (EF 77–78).
Право эмигрировать — естественное право, способствующее лучшему распределению населения по Земле. Можно ограничивать это право, но только в крайних случаях, и в документе они не уточнены: «Землевладение отдельных народов требует уважения, но без преувеличений: если где-либо земля производит изобильное питание для всех, нельзя без веских оснований и по несправедливым причинам преграждать доступ честным нуждающимся иностранцам, разве только из соображений общественной пользы, но они требуют максимально тщательного взвешивания» (EF 79; курсив наш).
Иоанн XXIII и II Ватиканский Собор
В 1963 году, с выходом энциклики Pacem in terris (PT)[4] Иоанна XXIII, Церковь становится защитницей прав человека. Среди прочих названы следующие права: «Каждый человек имеет право свободно перемещаться и проживать внутри политического сообщества, чьим гражданином он является; также он имеет право, когда того требуют законные интересы, иммигрировать в другие политические сообщества и там поселиться» (PT 12). Далее ясно сказано о набирающем силу явлении — политическом беженстве. В условиях «холодной войны» очевидная главная забота — о тех, кто бежит от коммунистических диктатур. Папа подчеркивает, что «политические беженцы — люди, и следует признать за ними все неотъемлемые права человека» (PT 57). Но заходит речь и о другой категории мигрантов: «Среди неотъемлемых прав человека есть также право селиться в политическом сообществе, где человек полагает, что сможет построить будущее для себя и своей семьи; следовательно, это политическое сообщество — в пределах, дозволяемых общим благом, верно понятым, — обязано разрешить такое поселение, равно как и благоприятствовать включению в себя новых членов» (PT 57). Итак, право мигрировать, «чтобы построить будущее для себя и своей семьи», — естественное право человека, подразумевающее, что страна, куда он иммигрирует, обязана его принять. Эта обязанность лишь немного смягчена словами «в пределах, дозволяемых общим благом, верно понятым».
Пастырская конституция Gaudium et spes (GS)[5] II Ватиканского Собора прямо упоминает личное право на миграцию, требующее уважения (ср. GS 65), но в этом параграфе речь идет о развивающихся странах, и подчеркнута обязанность всех вносить вклад в общее благо своими материальными ресурсами и талантами. Также упомянуты права и обязанности государств в плане контроля над своим населением (ср. GS 87). Это место цитируют более поздние документы, когда утверждают право государства контролировать иммиграцию; однако если мы вчитаемся в GS, то увидим, что высказывание очень общее и не сфокусировано на данной проблематике[6].
Павел VI: «Pastoralis migratorum cura» и «De pastorali migratorum cura»
В большой энциклике о развитии, Populorum Progressio (PP)[7], Павел VI упоминает мигрантов в разделе, посвященном всеобщей милосердной любви. Папа подчеркивает необходимость, во имя христианского милосердия и человеческой солидарности, оказывать помощь тем, кто перебирается ради работы в чужую страну, чтобы избежать бедности в своей собственной, а также студентам (ср. PP 67–69). Энциклика написана в разгар десятилетий, известных как «тридцать славных лет», когда такие страны, как Франция, Германия и Великобритания, переживали бурный экономический рост и масштабно привлекали иностранную рабочую силу. Это и эпоха обретения независимости для ряда государств, когда много надежд возлагалось на экономическое развитие.
В 1969 году моту проприо Pastoralis migratorum cura, с последующей инструкцией Конгрегации по делам епископов De pastorali migratorum cura (PMC), становится важным обновлением конституции Exsul Familia Пия XII[8]. Здесь опять-таки перед нами важный текст о пастырском попечении о мигрантах, с нормативным и каноническим измерением, а также в первой части дано емкое описание миграционного феномена, как его воспринимает Церковь. Миграция — сложное явление, из него вытекают права и обязанности. Ситуации бывают разные, и нужно отличать вынужденную миграцию по политическим или экономическим причинам от добровольной миграции ради образования или сотрудничества. Отношение Церкви — в целом позитивное: «Миграция, благоприятствуя и содействуя взаимному узнаванию и всеобщему сотрудничеству, свидетельствует о единстве человеческой семьи и совершенствует его, а также ясно утверждает братское общение между народами, в котором обе стороны одновременно отдают и получают» (PMC I, 2).
Но это не мешает подчеркнуть тяжесть причин, побудивших многих к миграции: экономическое неравенство, вооруженные конфликты, насилие и гонения по расовому, половому, религиозному признаку, из-за политических убеждений. Заявлено право мигрировать, и названо единственное возможное ограничение: «Естественное право человека — использовать материальные и духовные блага, чтобы “совершенствоваться полнее и скорее” [GS 26]. Но когда государство, из-за нехватки ресурсов и многочисленности своих жителей не может предоставить эти блага в распоряжение своих граждан или выставляет условия, попирающие человеческое достоинство, у человека есть право эмигрировать, выбирать новое место жительства за границей и там искать более достойных условий жизни. Это право принадлежит в полной мере не только отдельным людям, но и целым семьям. Вот почему необходимо “при регулировании эмиграции всеми силами оберегать общее жительство семьи”[9], учитывая семейные потребности в аспектах жилья, образования детей, условий труда, социальной безопасности и налоговых сборов. Гражданские власти несправедливо нарушают право человека, если возражают против эмиграции или иммиграции или препятствуют ей, за исключением случаев, когда того требуют серьезные и объективные причины, относящиеся к общему благу» (PMC I, 7).
Право на миграцию — эмиграцию и иммиграцию — ясно утверждено, равно как и соответствующие обязанности принимающей страны: впускать целую семью и со всеми обращаться равно. Противодействие миграции названо несправедливым, если только — очевидно, речь не о какой-то мелочи — ограничения не продиктованы серьезными причинами, относящимися к общему благу.
В тот же период, в 1971 году, в заключительном документе Синода епископов о справедливости даны очень точные указания на несправедливые ситуации, в каких оказываются мигранты и беженцы: «Например, часто бывает, что эмигранты вынуждены покинуть родину в поисках работы, но перед ними захлопывается дверь по дискриминационным причинам, или же, если их впустили, зачастую им приходится жить в небезопасном положении или терпеть бесчеловечное обращение. […] Особенно прискорбно положение тысяч и тысяч беженцев и всякого сословия или народа, гонимого — порой в официальной форме — в силу расового или этнического происхождения или по племенным соображениям. Гонение по племенным соображениям иногда обретает черты геноцида»[10].
Иоанн Павел II: «Laborem exercens» и послания в связи с ВДМБ
Отношение Церкви к миграционному феномену эволюционирует в восьмидесятые и девяностые годы. Далеко позади осталась простая картина из Exsul Familia, где сказано о «лучшем распределении населения по планете». Положение меняется с нефтяным кризисом и окончанием «тридцати славных лет». Массовая безработица устойчиво распространяется по многим западным странам. Иностранную рабочую силу больше не встречают с распростертыми объятиями. Однако миграционные потоки движутся и даже растут. Слова, произнесенные французскими епископами в 1995 году, дают ясное представление об этой эволюции: «Условия в принимающих странах изменились. Перед нами глубокий кризис. Безработица выросла структурно. Страх перед будущим побуждает целые сектора нашего общества закрываться и цепко держаться за свою идентичность. Все чаще звучат разговоры о том, что иностранцы — фактор риска и конкуренты на рынке труда»[11].
В энциклике о труде Laborem exercens (LE)[12], написанной по случаю 90-й годовщины Rerum novarum, Иоанн Павел II подтверждает право покинуть свою страну — а потом вернуться — и искать лучших жизненных условий в других местах. Но Папа также подчеркивает, что трудовая эмиграция — это потеря для страны происхождения и выгода для принимающей страны, поскольку та получает работника, которому не сама дала образование. Папа говорит об эмиграции как о «необходимом зле»: «Человек имеет право покинуть свою родную страну по разным причинам — равно как и вернуться — и искать лучших жизненных условий в другой стране. Этот факт, конечно, сопряжен с разнообразными трудностями. Прежде всего он, как правило, означает потерю для покинутой страны. […] И тем не менее, хотя эмиграция в каких-то отношениях есть зло, в определенных обстоятельствах его можно назвать необходимым. […] Самое важное — человек, работающий вне родной страны как постоянный эмигрант или сезонный работник, не должен оказаться в невыгодных условиях в плане трудовых прав, по сравнению с остальными работниками в данном обществе. Трудовая эмиграция никоим образом не может становиться поводом для финансовой или социальной эксплуатации» (LE 23).
Начиная с 1987 года, в связи со Всемирным днем мигранта и беженца (ВДМБ), Папа ежегодно выпускает послание, в котором размышляет над различными аспектами Евангелия, применимыми к вопросу о миграции. Эти послания представляют собой очень яркое выражение социального учения Церкви относительно миграционного феномена. Затронуты значимые темы: принимать чужестранца с радостью, распознавая в нем лик Христов (1993); государство должно защищать семьи иммигрантов от любых проявлений остракизма и расизма (1994); Церковь и неурегулированная миграция (1996). Иоанн Павел II неустанно требовал соблюдать права беженцев и мигрантов, а также развивать подлинную культуру гостеприимства и отображать ее в законодательстве.
Папский совет по пастырскому попечению о мигрантах
К тому же периоду относится заметный документ, выпущенный в 1992 году совместно Папским советом Cor unum и Папским советом по пастырскому попечению о мигрантах и странствующих: Беженцы взывают к солидарности (RSS)[13]. Ясный и осознанный взгляд на эту категорию мигрантов сочетается с настойчивым обращением к совести людей внутри и вне Церкви: «Защита — не уступка беженцу: он не объект помощи, а субъект прав и обязанностей» (RSS 11). Однако требование уважать право на убежище и напоминание об обязанности принимать беженцев не звучат наивно: «Намерение помочь беженцам — воспринимаемое и как нравственная обязанность облегчить чужие страдания — порой наталкивается на страх перед непомерным ростом их численности и перед контактом с другими культурами, поскольку они могут пошатнуть образ жизни в принимающей стране. Тех, на кого смотрели с симпатией вчера, когда они были “далеко”, сегодня отвергают, потому что они слишком “близко” и их слишком много» (RSS 16).
Эта тема затронута в послесинодальном обращении Ecclesia in Europa (EE)[14] Иоанна Павла II: «Каждый должен содействовать росту зрелой культуры гостеприимства, которая, учитывая равное достоинство всякого человека и обязательную солидарность со слабейшими, требует признавать основные права каждого мигранта. Гражданские власти отвечают за контроль над миграционными потоками сообразно тому, чего требует общее благо. Принятие мигрантов всегда должно сочетаться с соблюдением законов, а при необходимости — с решительным пресечением злоупотреблений» (EE 101). По сравнению с предыдущими документами, здесь тверже заявлено законное право государств регулировать доступ на свою территорию, хотя по-прежнему звучит призыв, тоже очень четкий, соблюдать права мигрантов и развивать культуру гостеприимства.
Папский совет по пастырскому попечению о мигрантах и странствующих опубликовал в 2004 году третий знаковый документ — в одном ряду с Exsul Familia и Pastoralis migrantes cura — о пастырстве для мигрантов и вообще о миграции как явлении: Erga migrantes caritas Christi («Любовь Христа к мигрантам» [CCM])[15]. Анализ здесь точнее и подробнее, чем в двух предыдущих документах. Названы причины миграционного феномена: «Определяемый во многих случаях свободным решением людей и продиктованный довольно часто культурными и научно-техническими целями, а не только экономическими, он по большей части служит ясным указанием на социальный, экономический и демографический дисбаланс как на региональном, так и на мировом уровне, побуждающий эмигрировать. К миграции также склоняют радикальный национализм, а во многих странах — явная ненависть, систематическое или насильственное вытеснение на обочину этнических и религиозных меньшинств и гражданские, политические, этнические и даже религиозные конфликты, орошающие кровью все континенты» (CCM 1).
Часть текста посвящена темам встречи культур и религиозному плюрализму. Не замалчиваются трудности и проблемы, стоящие как перед принимающим населением, так и перед мигрирующим. Проведены различия между необходимой помощью в чрезвычайной ситуации, принятием и интеграцией, нацеленной на долговременную перспективу. Во второй части, где речь идет о «пастырстве принятия», выделены категории: мигранты-католики, мигранты — члены других Церквей, мигранты — верующие других религий; особое размышление посвящено мигрантам-мусульманам. Фоном для этого ясного обзора постоянно звучит призыв к гостеприимству и солидарности во имя христианской веры, ради «побуждающей нас любви Христовой» (CCM 1). «Христиане должны […] созидать подлинную культуру гостеприимства […], умеющую ставить аутентичные человеческие ценности других людей выше всех трудностей, сопровождающих соседство с тем, кто от нас отличается» (CCM 39). Как и в предыдущих документах, еще раз подчеркнуто право мигрировать, но очень ясно обозначены его возможные границы, хотя прямо не сказано о неизбежных трениях (ср. CCM 21; 29).
Бенедикт XVI: «Caritas in veritate» и послания в связи с ВДМБ
Послания Бенедикта XVI ко Всемирному дню мигранта и беженца выстраиваются в один ряд с текстами предыдущего Понтифика. В мире, где факторы, провоцирующие миграцию, постоянно растут, причем наравне с проявлениями отвержения и враждебности в адрес мигрантов, Папа повторяет евангельскую весть: «Каждый человек — священная история» (2006); мы составляем «единую человеческую семью» (2011). В своей социальной энциклике Caritas in veritate (CV)[16] Бенедикт XVI настаивает на необходимости глобального подхода и международного сотрудничества для решения проблем, связанных с феноменом миграции: «Можно сказать, что перед нами социальное явление эпохальной природы, и для адекватного обращения с ним требуется сильная и дальновидная политика международного сотрудничества. Эту политику должны выстраивать, тесно взаимодействуя, исходные и принимающие страны; она должна сопровождаться надлежащими международными нормами, способными согласовать различные законодательные постановления, чтобы удовлетворить требования и права эмигрировавших лиц и семей, равно как и общества, принимающего этих мигрантов» (CV 62).
Здесь по-новому выражена напряженность, подчеркиваемая на протяжении всей истории этого явления: политические меры и законы о миграции должны удовлетворять как «требования и права эмигрировавших лиц и семей», так и «общества, принимающего этих эмигрантов». Похоже, что здесь два полюса напряжения поставлены на один уровень. Папа не углубляется в подробности, а немного дальше напоминает основной принцип: «Каждый мигрант — человеческая личность, поэтому он обладает неотъемлемыми основными правами, и соблюдать их должны все и в любой ситуации» (CV 62).
А теперь процитируем документ менее известный, но значимый. Вслед за инструкциями от 1992 года, Папский совет Cor unum и Папский совет по пастырскому попечению о мигрантах и странствующих опубликовали в 2013 году новый свод пастырских указаний на более конкретную тему — о беженцах: Принимать Иисуса Христа в беженцах и принудительно выдворенных (AGC)[17]. Здесь очень точно сформулирована позиция Церкви по правам государств и по правам беженцев и тех, кто просит убежища: «Общепризнано, что государства имеют право принимать меры против беспорядочной иммиграции, при должном соблюдении прав человека для всех. В то же время необходимо учитывать фундаментальную разницу между теми, кто бежит от войны и политического, религиозного, этнического или иного гонения (беженцы и просящие убежища), и теми, кто просто пытается незаконно проникнуть в страну, а также между “теми, кто бежит от экономических [и природных] условий, угрожающих жизни и физической целостности”, и “теми, кто эмигрирует, просто чтобы улучшить свое положение”» (AGC 57).
Что касается запрашивающих убежища и беженцев, «первым ориентиром должны быть не государственные соображения или национальная безопасность, а человеческая личность». Это означает полное соблюдение прав человека, равно как и удовлетворение «потребности жить в сообществе, вытекающей из глубин человеческой природы» (AGC 58). Вскоре вслед за этим названы главные права беженцев, в частности: «Всякий, кто прибывает на границу с обоснованным страхом перед гонениями, имеет право на защиту и не должен быть выдворен обратно в свою страну, независимо от того, признан ли он беженцем формально» (AGC 61).
Что же мы констатируем в конце этого обзора? Во-первых, представляется очевидным, что церковное учительство высказывается о миграционном феномене щедро и изобильно; однако мы рассмотрели только всеобщее учительство, а следовало бы прибавить местные документы епископских конференций. Церковь не пренебрегает наставлением из Послания к евреям: «Страннолюбия не забывайте» (Евр 13, 2). Долг гостеприимства, обязанность принять того, кто по разным причинам покинул родные места, — не пустые слова, не идеалистическое или нереалистичное понятие, а неотложный призыв, за которым стоит ясный и точный анализ ситуаций, а формулировка эволюционирует со временем.
Отсюда возникает вопрос. Социальное учение на тему миграции всегда признавало и право мигрировать, и право принимающих стран регулировать иммиграцию ради общего блага. Между этими двумя правами может возникнуть напряжение, что сегодня фактически происходит в больших масштабах. Как Церковь справляется с этим напряжением? Просто перемещает курсор в зависимости от обстоятельств? Призывала к гостеприимству, почти неограниченному, пятьдесят лет назад, а теперь все настойчивее указывает на право регулировать, толкуемое некоторыми как право ограничивать миграцию? Заявлять о праве на миграцию имело смысл до конца XX века и до значительного усиления миграционных потоков в условиях глобализации, но сегодня уместно притормозить? Ответ на эти вопросы: «Нет»! Разговор о миграции не без острых углов, но это не значит, что долг гостеприимства устарел или превратился в растяжимое понятие. Базовое предпочтение отдается гостеприимству перед правом контролировать. На это есть много указаний в документах учительства: всегда сначала заявлено право на миграцию, а потом упомянуты возможные ограничения. Таким образом, напряжение преодолевается иначе: Церковь признает, что никакое право не абсолютно, поэтому нужно пройти путь этического распознавания, чтобы соблюсти все права[18].
Ссылка на фундаментальные принципы, на которых основано социальное учение Церкви о мигрантах — достоинство человеческой личности, общее благо, солидарность, всеобщее назначение благ, предпочтение бедным, — подчеркивает, что речь действительно идет о процессе распознавания. Принятие мигрантов, гостеприимство — это путь распознавания, личного, но прежде всего коллективного, социального распознавания. Папа Франциск тоже приглашает нас идти этим путем.
Какие акценты расставляет Папа Франциск
Франциск поместил вопрос о мигрантах в центр своего понтификата. Папа часто говорит о мигрантах, а еще совершает яркие символичные поступки, не менее, а то и более красноречивые, чем речи. По прошествии немногих дней после своего избрания Папой, в Великий четверг 2013 года, он омыл ноги несовершеннолетним в исправительном центре в Риме: вот безусловный символ милосердной любви. Среди тех, над чьими ногами он склонился в тот день, была молодая мусульманка-сербка. Любовь не знает исключений по национальному, половому или религиозному признаку. Несколько месяцев спустя Франциск предпринял свое первое путешествие за пределы Рима — на Лампедузу, где почтил память мигрантов, погибших в Средиземном море при попытке добраться до Европы. Посещая Мексику в 2016 году, Папа отслужил мессу в Сьюдад-Хуаресе, на границе с США, и благословил верных мексиканцев, собравшихся в большом количестве по другую сторону границы, на территории Соединенных Штатов. Последним глубоко символичным жестом стало посещение Лесбоса в апреле 2016 года. Это — сильные образы! Символичные образы! В них выражено то, что Франциск непрестанно повторяет в речах и текстах; назовем три ключевых элемента, исходя из тем, важных для Папы[19].
Реальность превыше идеи. Мигранты, беженцы и те, кто просит убежища, — люди, а не статистические единицы. Это наши братья и сестры. «Мы не можем отрицать, что гуманитарным кризисом стала в последние годы миграция тысяч людей: в поездах и на автомобилях, даже пешком они проходят сотни километров по горам, пустыням, негостеприимным дорогам. Человеческая трагедия, какую представляет собой вынужденная миграция, — на сегодняшний день глобальное явление. Этот кризис можно измерять цифрами, а для нас он измеряется именами, историями, семьями»[20]. Реальность также требует не отворачиваться от проблем. Франциск подчеркивает, что «вопрос идентичности отнюдь не второстепенный. Ведь эмигрант вынужден менять какие-то аспекты, определяющие его личность, и, даже не желая того, склоняет к переменам принимающую сторону». Затем Франциск задает вопросы: «Как пережить эти перемены, чтобы они стали не помехой на пути подлинного развития, а возможностью для человеческого, социального и духовного роста, как сохранить и укрепить те ценности, которые делают человека человечнее и помогают выстраивать правильные отношения с Богом, с другими людьми и с тварным миром? […] Как добиться того, чтобы интеграция стала взаимным обогащением, открыла добрые пути перед общинами и предотвратила дискриминацию, расизм, крайний национализм и ксенофобию?»[21] Поэтому миграционные феномены требуют управления и регулирования.
Время превыше пространства. Запускать процессы важнее, чем удерживать зоны власти. Диалог, встреча, принятие и интеграция принадлежат к логике «процесса», открытой и творческой динамики. Франциск призывает нас развивать культуру принятия и встречи, вопреки культуре отказа и равнодушия: «Культура благосостояния, побуждающая думать о себе, делает нас глухими к воплям других людей, помещает нас в мыльные пузыри, красивые, но они — ничто, пустая мимолетная иллюзия, ее плод — равнодушие к другим, даже глобализация равнодушия»[22].
Единство превыше конфликта. На границе между Мексикой и США Франциск напоминает: при всех наших конфликтах мы составляем единую семью. Это единство сильнее и глубже конфликтов: «В эту минуту хочу поприветствовать отсюда наших дорогих братьев и сестер, сопровождающих нас прямо сейчас по ту сторону границы […]. Благодаря технологиям мы можем вместе молиться, петь и славить милосердную любовь, какую Господь нам дает, и никакая граница не помешает нашему общению. Спасибо, братья и сестры в Эль-Пасо: с вами мы чувствуем себя одной семьей, единой христианской общиной»[23].
Молитва на Лесбосе ясно показывает Папины убеждения[24]. Нужно пробудиться от «равнодушного сна» и от «бесчувственности, порожденной мирским благосостоянием и сосредоточенностью на себе», которые нас «обезболивают» и уже не позволяют видеть страдания наших братьев и сестер по человечеству. Есть сильное богословское убеждение, ключевое для документа, подписанного в Абу-Даби: все люди — создания Божии, принадлежат к «единой человеческой семье»[25]. Наконец, Папа подхватывает важную тему из Послания к евреям (ср. Евр 11, 16): «Все мы мигранты» в пути к Небесному Отечеству, к Богу — «нашему истинному дому».
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Франциск, Пресс-конференция на обратном пути с Лесбоса, 16 апреля 2016 г., w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/april/documents/papa-francesco_20160416_lesvos-volo-ritorno.html
[2] E. Bianchi, Ero straniero e mi avete ospitato, Milano, Rizzoli, 2006, 12 сл.
[3] Ср. Пий XII, Апостольская конституция Exsul Familia (1 августа 1952 г.), www.vatican.va/content/pius-xii/la/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19520801_exsul-familia.html
[4] Ср. Иоанн XXIII, св., энциклика Pacem in terris (11 апреля 1963 г.).
[5] Ср. II Ватиканский Вселенский Собор, Пастырская конституция Gaudium et spes (7 декабря 1965 г.).
[6] Этот раздел сфокусирован на вопросе о контроле над рождаемостью.
[7] Ср. Павел VI, св., энциклика Populorum Progressio (26 марта 1967 г.).
[8] Ср. его же, Апостольское послание Pastoralis migratorum cura (15 августа 1969 г.); Священная конгрегация по делам епископов, Инструкция De pastorali migratorum cura (1969).
[9] II Ватиканский Вселенский Собор, декрет Apostolicam actuositatem, № 11.
[10] Синод епископов, Iustitia in mundo (1971), № 2. Доступно здесь: www.doctrine-sociale-catholique.fr/142-justitia-in-mundo
[11] Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de France, Communiqué, 1995, в La documentation catholique, февраль 1996 г.
[12] Ср. Иоанн Павел II, св., энциклика Laborem exercens (14 сентября 1981 г.).
[13] Ср. Папский совет «Cor Unum» — Папский совет по пастырскому попечению о мигрантах и странствующих, Беженцы взывают к солидарности.
[14] Ср. Иоанн Павел II, св., Послесинодальное апостольское обращение Ecclesia in Europa (28 июня 2003 г.).
[15] Папский совет по пастырскому попечению о мигрантах и странствующих, Инструкция Erga migrantes caritas Christi (3 мая 2004 г.).
[16] Бенедикт XVI, Энциклика Caritas in veritate (29 июня 2009 г.).
[17] Папский совет по пастырскому попечению о мигрантах и странствующих — Папский совет «Cor Unum», Принимать Иисуса Христа в беженцах и принудительно выдворенных (2013), www.vatican.va
[18] Ср. R. Micallef, Gates Fair on All Sides. Christian Reflections on Establishing Ethical and Sustainable Border Policies and Citizenship Laws in a «Globalised» World, диссертация в Бостонском колледже, 2013, http://dlib.bc.edu/islandora/object/bc-ir:104082
[19] Эти темы представлены в апостольском обращении Франциска Evangelii gaudium (EG), № 222–237.
[20] Франциск, Проповедь в Сьюдад-Хуаресе, 17 февраля 2016 г.
[21] Его же, Послание ко Всемирному дню мигрантов, 1 января 2016 г.
[22] Его же, Проповедь на Лампедузе, 8 июля 2013 г.
[23] Его же, Проповедь в Сьюдад-Хуаресе, 17 февраля 2016 г.
[24] Ср. www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/april/documents/papa-francesco_20160416_lesvos-cittadinanza.html
[25] Первая строка гласит: «Во имя Бога, сотворившего всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве и призвавшего их жить вместе по-братски» (Документ о человеческом братстве ради мира во всем мире и добрососедства, 4 февраля 2019 г.).