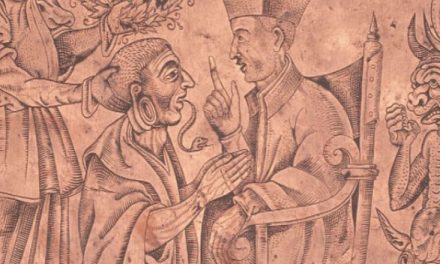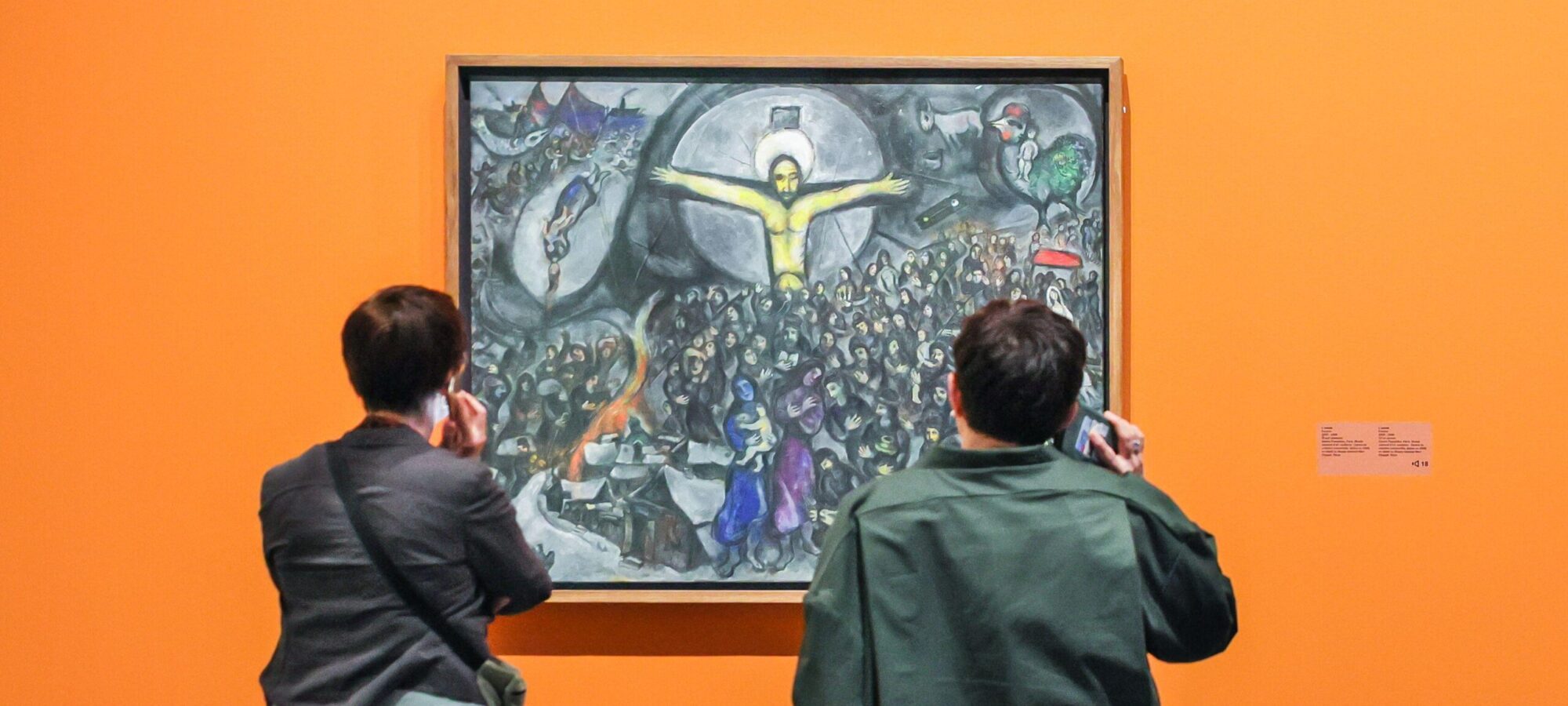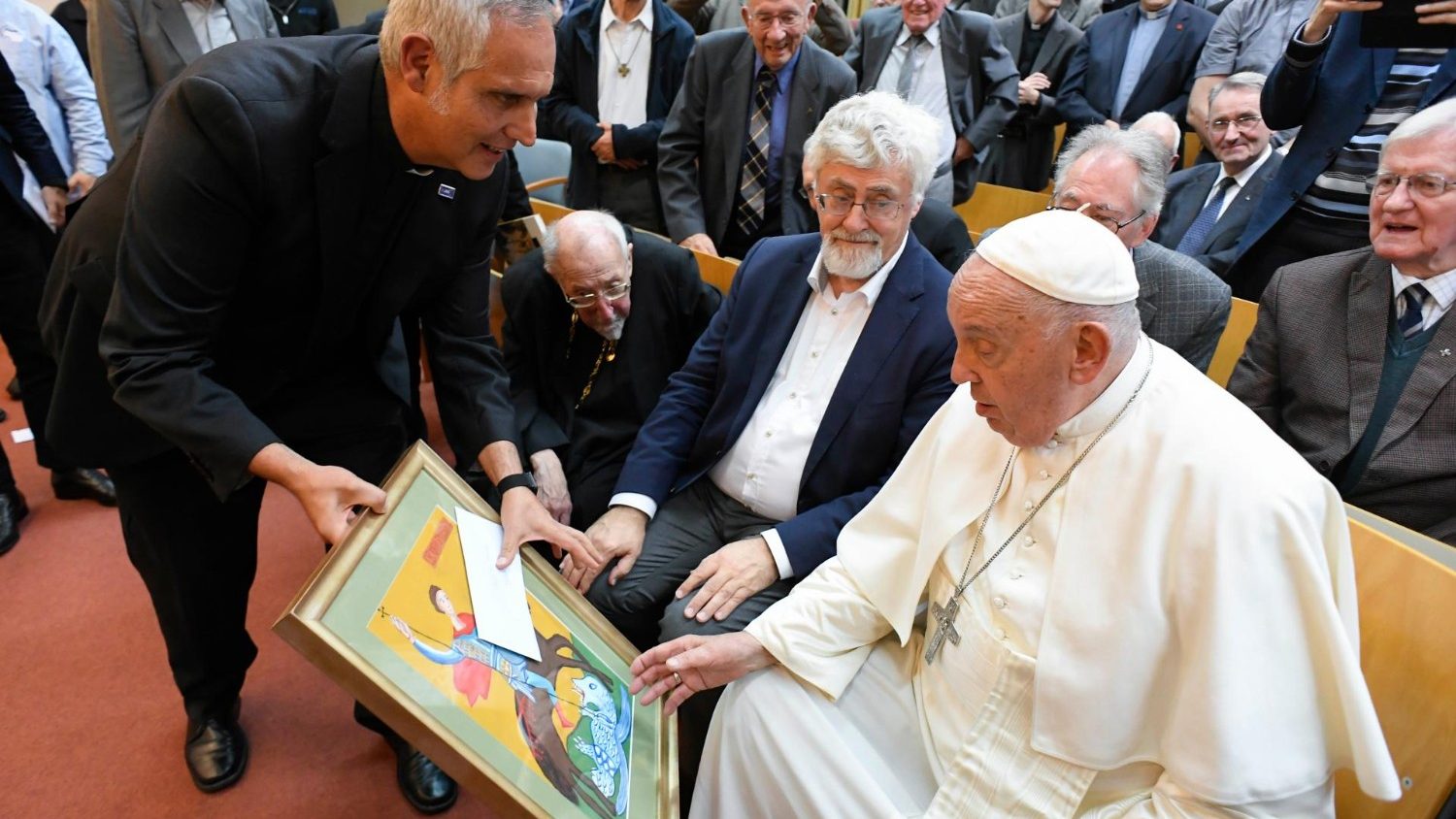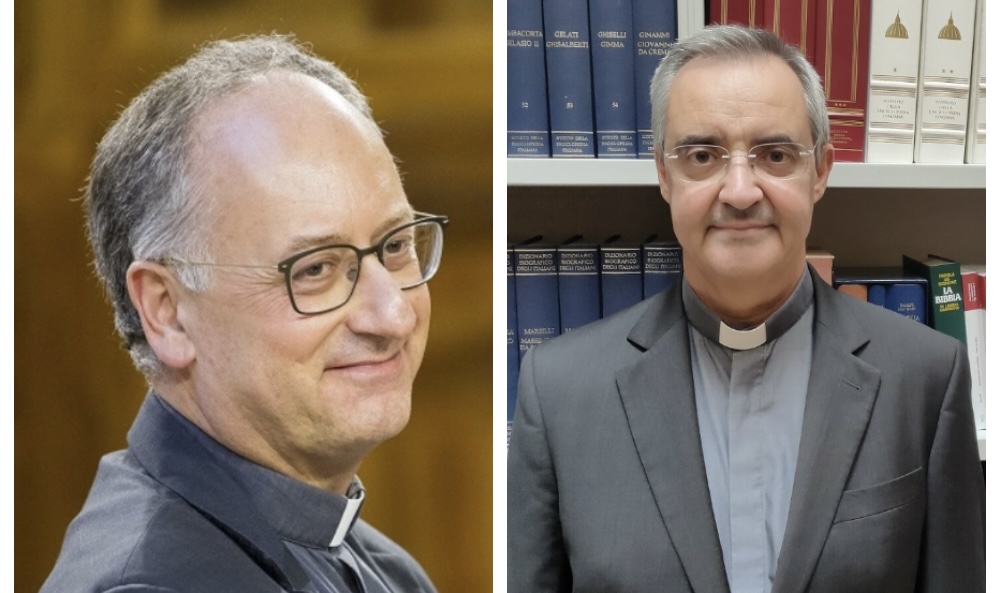Гаэль Жиро SJ — Како Нубукпо — Юбер Родари
9 мая 2024 года Папа Франциск опубликовал буллу Spes non confundit (SnC), в которой объявлено о Юбилее 2025 года и определены его основные духовные и пастырские направления. 2025 год — это и восьмисотая годовщина Песни творений св. Франциска Ассизского. Песнопение бедного святого, называющего солнце «братом», а луну «сестрой», звучит как призыв ко вселенскому братству, к которому Церковь намерена проложить дорогу в Юбилейный год.
По мнению Франциска, это календарное совпадение требует безотлагательно ответить на серьезные вызовы, связанные с необходимостью решительно сократить вредное влияние человеческой деятельности на окружающую среду. Нужно признать, что веским рекомендациям энциклики Laudato si’ (LS) от 2015 года до сих пор следуют неохотно, равно как и Парижскому соглашению, подписанному в том же году, или 17 целям устойчивого развития, опубликованным Организацией Объединенных Наций опять-таки в 2015 году. В этих обстоятельствах Папа призвал «самые благополучные нации» «простить долги странам, которые никогда не смогут расплатиться» (SnC 16). Хотя это предложение явно перекликается с древнейшим библейским преданием (ср. Исх 23, 10–11) и успешными действиями св. Иоанна Павла II в девяностые годы прошлого века[1], оно неизбежно вызывает вопросы в деловом мире: разумно ли отменять долги, взятые государствами? А тот, кто трудится в поте лица, чтобы заплатить свои долги или дать взаймы сбережения, не окажется ли жертвой недопустимой несправедливости? Или перед нами лишь благочестивое пожелание, путающее личную сердечную милость со здравой логикой международных финансов?
Попробуем показать, что это разумное решение — если правильно к нему подойти — и ответ на обращенные к нам масштабные вызовы: экологические, экономические, финансовые и социальные. Постараемся понять этот парадокс, вступающий в резкое противоречие с кажущимся здравомыслием столь привычного управления в духе «отца семейства».
Экологический и церковный контекст
Глобальные выбросы углерода от ископаемого топлива достигли рекордных уровней в 2024 году[2]. В течение ряда лет эксперты прогнозируют, что порог +1,5 oC повышения средней температуры на земной поверхности будет достигнут почти наверняка в декаду 2030–2040. Эксперты также полагают, что будет очень трудно не перешагнуть через рубеж +2 oC самое позднее к середине века. Цена бездействия обещает быть сокрушительной, как показывает доклад швейцарской группы Swiss Re, одного из главных мировых поставщиков перестрахования[3]. По оценкам, при самом оптимистичном сценарии с 2050 года мировая экономика будет ежегодно терять по меньшей мере 11 % ВВП сравнительно с богатством, которое она произвела бы без глобального потепления. В худшем случае ожидается снижение до -18,1 %. Историческая справка: согласно Всемирному банку, COVID19 вызвал падение глобального ВВП на -5,2 % в 2020 году[4], что фактически стало самой сильной рецессией на планете со Второй мировой войны. Таким образом, бездействие в аспекте климата, по всей вероятности, каждый год будет обходиться вдвое, если не втрое дороже, чем пандемия.
Итак, неслучайно с 2015 года Папа Франциск неоднократно возвращается к теме экологического императива: в феврале 2020 года апостольское обращение Querida Amazonia напоминает о том, как важен для нас амазонский биотоп с его автохтонным населением, если мы хотим на глобальном уровне научиться уважительным отношениям с тварным миром. 3 октября того же года вышла энциклика Fratelli tutti (FT); в главе V Папа ставит под вопрос корпус идей, названный «неолиберальной догмой», в частности так называемый тезис «переполнения», якобы автоматически корректирующего неравенство, на которое структуры и организации, производные от этого корпуса, обрекают социальные образования и планету (FT 168). Впрочем, тезис «переполнения» — гласящий, что прибыль, получаемая самыми состоятельными (собственниками капитала и бенефициарами производимых им дивидендов) выгодна всем — был уже много раз развенчан[5]. Наконец, в октябре 2023 года, в обращении Laudate Deum (LD), Папа подчеркивает значимость политического и международного измерения борьбы с потеплением климата.
С учетом вышесказанного подойдем к параграфу 16 буллы Spes non confundit, где Франциск призывает простить долги «странам, которые никогда не смогут расплатиться». Этот отрывок был процитирован государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином, когда тот выступил с речью от имени Папы Франциска на встрече Cop29 в Баку 13 ноября 2024 года. Наконец, сам Папа уверенно повторил свой призыв в послании к LVIII Всемирному дню мира 1 января 2025 года, в нескольких речах по поводу начала Юбилейного года и в обращении от 9 января 2025 года к дипломатическому корпусу, аккредитованному при Святом Престоле.
Отменить государственные долги: каковы ставки?
Беря долг, суверенное государство выпускает облигации, чаще всего — особенно в южных странах — подписанные банками. Это значит, что банк предоставляет заем государству в обмен на признание государственного долга. Важно понять, что, предоставляя заем, банк создает денежную массу из ничего. На самом деле один лишь механизм банковского кредита создает денежную массу в нашей экономике. Это относится не только к займам, выданным банками государствам: когда банк предоставляет заем, большая часть выданных денег не существовала до подписания договора о займе, как подтверждают МВФ, Центральный банк Англии, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, Европейский центральный банк и Банк международных расчетов (Центральный банк центральных банков)[6].
Предоставление займа осуществляется посредством простой письменной (цифровой) операции[7]. Возврат тоже осуществляется посредством письменной операции и подразумевает исчезновение денежной массы, созданной в момент выдачи займа. Следовательно, упразднить долг — значит оставить ее в обращении, а не дать ей исчезнуть в бюджете банка, выдавшего изначальную ссуду[8]. Кто пострадает в таком случае? Банковский сектор, поскольку не получит прибыли, которую ожидал получить (через выплату процентов). Этим фактом отнюдь нельзя пренебрегать, но он несопоставим с ограблением семьи, чьи сбережения «ворует» безденежное государство. Более того, Папа Франциск настойчиво уточняет, что долги следует прощать тем странам, «которые никогда не смогут расплатиться» (SnC 16). Что касается этих стран, дальновидное руководство банка-заимодателя должно констатировать, что в любом случае банк не вернет себе выданный капитал, а только часть процентов.
На практике положение усложняется по многим причинам. Во-первых, долг многих южных стран исчисляется в зарубежной валюте (часто в долларах США). Поэтому отмена долга может повлечь за собой трудно предсказуемые последствия для обменного курса страны-займодавца и страны, в чьей валюте исчисляется долг. Однако эти последствия могут оказаться и благоприятными, если реструктуризация долга позволит восстановить доверие к способности страны выполнять свои будущие обязательства.
Во-вторых, инвесторы-учреждения (пенсионные фонды, страховые компании, паевые инвестиционные фонды и т. д.) тоже иногда становятся заимодавцами. Не имея банковской лицензии, они не производят денежную массу, но предоставляют ссуду.
Далее ситуацию усложняет тот факт, что облигации часто служат сопровождением для различных финансовых операций, таких как соглашения о выкупе (repurchase agreements или Repo), всевозможные деривативы и межбанковские ссуды. И тогда одна и та же облигация используется многократно в качестве сопровождения (то есть как гарантия, вроде ипотеки) для различных трансакций. Таким образом, облигации представляют собой хребет мировой финансовой системы и гарантируют доверие к большому числу рынков. Следовательно, отмена государственного долга иногда бывает опасной для стабильности самих финансовых рынков. Однако эта трудность не затрагивает ни одну из уязвимых стран, о которых Папа ведет речь.
Наконец, положение становится еще сложнее оттого, что некоторые финансовые инвесторы держат деривативы по ценным бумагам государственного долга: например, общим гарантийным документом являются кредитные дефолтные свопы (Credit default swaps, CDS). Им грозят большие потери, если списана часть долга. Некоторые страны связали свои государственные облигации с этими свопами и с маневрами повторной ипотеки. Как бы то ни было, решение состоит в том, чтобы урегулировать рынок деривативов по государственному долгу (swaptions, cross-currency swaps, CDS, IRS и т. д.) или запретить повторную ипотеку вместо отказа от пересмотра долга неплатежеспособных стран.
Кто может расплатиться?
Прежде всего напомним, что вот уже более 30 лет эпизоды дефолта по государственному долгу случаются в среднем каждые два года. Невыплата государственного долга отнюдь не исключительное явление, а почти рядовое событие в международной финансовой рутине.
Сегодня, согласно МВФ, мировой государственный долг составляет около 100 000 миллиардов долларов — эквивалент мирового ВВП, — и добрая треть этой суммы относится к странам, которые когда-то назывались «развивающимися». Совокупность внешнего государственного долга стран с низким и средним доходом удвоилась с 2010 по 2021 год и достигла 3 000 миллиардов долларов[9]. Согласно Всемирному банку, в 2022 году так называемые «развивающиеся» страны направили рекордную сумму 443,5 миллиардов долларов на обслуживание своего внешнего государственного долга и долгов, гарантированных государством[10]. В том же году, согласно Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государственные субсидии на глобальное развитие достигли около 204 миллиардов долларов. Подведем итоги: на сегодняшний день мировой денежный поток движется с Юга и финансирует Север[11].
Реальность такова, что почти ни одно суверенное государство не возвращает своих долгов: рефинансирует, то есть для погашения одного долга договаривается о новом кредите на ту же сумму. В принципе государство может рефинансировать свой долг до бесконечности[12], пока получает ссуды под выгодный процент. Чего фактически нельзя избежать, так это выплаты процентов. Впрочем, из одних только процентов кредиторы извлекают прибыль (а не из возвращения капитала). Следовательно, рефинансирование долга — «выгодная сделка» для кредиторов: она позволяет продлить выплату процентов. Не только государства этим пользуются, но и многие предприятия, в том числе частные. Но такая практика означает вымогательство, потенциально бесконечное; им оправданы сокращение бюджета и развал коммунального обслуживания. Напротив, Румыния при Чаушеску вместе с Норвегией начала двухтысячных — одна из очень немногих современных стран, полностью выплативших свой внешний долг: ценой экономического коллапса в случае Бухареста и благодаря нефтяной манне в случае Осло.
Что на самом деле имеет значение, так это способность государства обеспечить обслуживание своего долга. Поэтому помимо роли, какую играет валюта, в которой исчисляется государственный долг, хорошим индикатором платежеспособности является соотношение между обслуживанием долга и ежегодными бюджетными поступлениями (два потока). Это соотношение ниже 10 % почти для всех западных стран и выше 15 % для всех южных стран, ныне испытывающих трудности; средняя цифра 38 %, она достигает 54 % в Африке[13], где средние расходы на проценты по государственному долгу выше, чем на образование или здравоохранение.
Итак, растет запрос на новый подход к устойчивости долга: приоритетными должны быть нужды южных стран. Организации гражданского общества призывают списать без условий неустойчивые долги, чтобы позволить этим странам вкладываться в такие насущные секторы, как здравоохранение, образование и климатическая стабильность. Конечно, в девяностые годы, усилиями св. Иоанна Павла II, Католическая Церковь заняла твердую позицию в поддержку списания государственных долгов южных стран. Хотя сбрасывать со счетов это решение нельзя, все же оно остается в большой мере политическим и подчинено повестке сильных держав.
Моральные возражения
Дело в том, что списание долга может склонить правительства к безответственному взятию кредитов или к небрежному управлению своими финансами в надежде на будущие спасательные операции. Однако этот риск, называемый «моральным» (хотя он мало общего имеет с моралью, здесь буквальный перевод английского выражения moral hazard, которое обозначает в страховой сфере неуверенность в поведении, сообразно обязательствам), не считается весомым: как было сказано, дефолты суверенных государств имеют место в среднем каждые два года и, по нашим сведениям, приумножатся в последующие годы. Противиться переговорам о списании на том основании, что это может склонить другие страны к небрежному обращению со своими финансами, ненамного моральнее, чем возражать против удаления метастаз из легких курильщика на том основании, что это спровоцирует других продолжать курить. Кроме того, моральный риск можно снизить, связав отмену долга с ясными и подконтрольными обязательствами по проведению экономических реформ. Все планы МВФ по реструктуризации основаны на идее выставления условий. К этому мы вернемся позже.
Однако страны, прошедшие через суровые реформы для выплаты своих долгов, могут счесть списание несправедливым: разве здесь не наблюдается неравное обращение со странами-должниками? Именно так. Но подумаем хорошенько: в большинстве случаев жертвы, затребованные от тех или иных стран-должников ради выплаты долгов, были столь велики потому, что кредиторы настаивали на структурных реформах, которые, как мы сегодня знаем, оказались еще большим злом. Например, греческое общество подверглось бесполезному кровопусканию в период 2010–2020: соотношение долг/ВВП (выполняющее функцию компаса) составляло 206,3 % в 2020 году, после жертвенного десятилетия и утраты более четверти греческого ВВП — сравним со 146,2 % в 2010 году. Запрещать пересмотр долга на том основании, что другие страдали от невозможности добиться того же, — все равно что утверждать, что умершие из-за неправильного лечения рака легких сочли бы несправедливым предоставление более качественного лечения другим курильщикам.
Остается базовый «моральный» аргумент: в конце концов, беря ссуду, должники связали себя обязательствами. Во имя чего они освобождены от этих уз? Если очевидно, что некоторое число стран обзавелись долгами неразумно, все же нужно подчеркнуть, что часто причиной неплатежеспособности становятся не собственные ошибки должника, а события, ему неподконтрольные: война, природное бедствие, увеличение официальных ставок дисконтирования американской Федеральной резервной системы[14]. Кроме того, как уже было сказано, нельзя заранее исключать ответственности кредитора за неустойчивую задолженность, если он раздавал кредиты в чрезмерных объемах или безответственно.
Как бы то ни было, главный аргумент, разумно выдвинутый Папой Франциском для оправдания невыплаты части государственных долгов бедными странами, — это экологический долг (ср. LS 51, цитировано в SnC 16).
Экологический долг — хороший критерий?
Способ оценить экологический долг «богатых» стран перед другими — рассчитать реальную стоимость глобального потепления для стран, терпящих от него ущерб, и возложить ответственность на развитые страны, пропорционально их вкладу в выбросы. Что касается «кредиторов экологического долга», по логике, это страны, по которым тяжелее всего ударили зависимость от горючих ископаемых развитых стран и огромные прибыли, извлекаемые крошечной элитой в большинстве нефтяных стран.
Сопоставляя ВВП и потери капитала, можно сделать вывод, что страны с низким и средним доходом потеряли в общей сложности 21 000 миллиардов долларов с момента подписания Конвенции по климату в Рио в 1992 году. Все участники рамочной конвенции ООН по изменениям климата, за исключением Евросоюза, понесли чистых убытков — более всего пострадали G77 (южные страны + Китай) — в общей сложности на 29 000 миллиардов долларов[15]. Это задает масштаб совокупного экологического долга стран, уже давно индустриальных, перед почти всеми остальными. Таким образом, списание 500 миллиардов долларов внешнего государственного долга горстке стран, испытывающих большие трудности, — лишь минимальная часть экологического долга (1,7 %). Возражения против списания, якобы основанные на моральных аргументах, должны отступить перед очевидностью: климатическая справедливость требует, напротив, гораздо большего, чем просто отмена этих государственных долгов.
Конечно, не все налогоплательщики в богатых странах в равной мере ответственны за выбросы своей страны. Поэтому было бы подлинной несправедливостью требовать от наименее имущих из них (причем именно они производят меньше выбросов в своей стране) оплачивать экологический долг своих более состоятельных сограждан. Согласно неправительственной организации Oxfam, самые богатые 10 % мирового населения ответственны за 52 % совокупных выбросов CO2 с 1990 по 2015 год. В Европе 10 % (самые состоятельные) отвечают за 27 % совокупных выбросов, тогда как 50 % (самые бедные) производят только 29 % выбросов. Поэтому не будет абсурдным утверждать, что 10 % (самые состоятельные в северных странах) должны взять на себя по меньшей мере половину затрат, связанных со списанием государственного долга южных стран.
Важно учитывать, что само понятие «экологического долга» и соответствующие расчеты (подобные вышеприведенным) амбивалентны: они основаны на монетизации ответственности производителей выбросов. Эта операция, безусловно, хорошо согласуется с духом нынешнего времени, но окажется опасной, если будет подпитывать иллюзию, будто все на свете можно монетизировать. В конце концов, достоинство живых людей не подлежит монетизации, да и моральная ответственность за выхлопы газа не компенсирует причиненный ущерб.
Возможное решение: свопы «долг–климат»
Обмены «долг–климат» представляются менее амбициозным, но более реалистичным решением, чем просто списание, и менее разрушительным, чем «структурные реформы» Международного валютного фонда. Речь идет о финансовых транзакциях, в которых часть долга страны списана или рефинансирована в обмен на инвестиции в экологические действия и приоритеты. Эти обмены имеют целью освобождение от долгового бремени и решение проблем, связанных с изменением климата, особенно в развивающихся странах с низким доходом и в маленьких островных развивающихся государствах. Всемирный банк произвел сотни таких обменов в начале двухтысячных годов, но только на региональном уровне.
Что касается национального уровня, в 2012 году Французское агентство по развитию подписало «Договор о сокращении задолженности и о развитии» с Кот-Д’Ивуар, чтобы конвертировать (частично) государственный долг этой страны в субсидии на проекты по развитию. Это инновационный способ вывести логику свопа «долг-климат» на национальный уровень. Позднее, начиная с Cop27, Южная Африка одобрила своп национального долга от Джорджтаунской программы экологической справедливости. Еще ближе к сегодняшнему дню Германия предложила странам-партнерам своп «долг–климат» до 150 миллионов евро в год, с конкретными примерами в Кении, Египте и Тунисе[16]. Недавно Эквадор заключил широкомасштабный своп «долг–природа»[17]. Пятьдесят восемь из развивающихся стран, наиболее уязвимых для климатических изменений, должны заплатить почти 500 миллиардов долларов долга в ближайшие четыре года[18]. Еще одна группа из 20 стран объявила, что намерена приостановить выплату долга размером 685 миллиардов долларов, надеясь обменять его на инвестиции в климатические проекты[19]. Потенциальный рынок свопов «долг–природа» превысил 800 миллиардов долларов в 2023 году и продолжает расти[20].
Итак, потенциал свопов «долг–климат» еще выше, чем суммы, о которых шла речь до сих пор. Кроме того, нынешний объем обменов часто считают «символическим» по сравнению с совокупной потребностью в инвестициях для климатического перехода[21]. Последние, по оптимистической оценке, составят на мировом уровне около 90 000 миллиардов долларов в ближайшие двадцать лет[22]. На сегодняшний день не требуют ли справедливость и здравый смысл списать (скромную) часть долга бедных стран, чтобы внести вклад в финансирование спасения нашего общего дома?
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Начиная с энциклики Centesimus Annus (1991) и до Юбилейного года 2000 Иоанн Павел II призывал аннулировать некоторые государственные долги южных стран, особенно африканских. Известно, что этот призыв повлиял на реструктуризацию долгов в начале двухтысячных годов.
[2] Ср. Global Carbon Emissions from Fossil Fuels Have Reached a Record High in 2024, University of Exeter, https://shorturl.at/jna3o
[3] Ср. Г. Жиро, «Unsafe». Страховка на горящей планете, в Civ. Catt. 2024 III 381–393.
[4] Ср. Groupe de la Banque mondiale, Le Groupe de la Banque mondiale et la pandémie de coronavirus, https://tinyurl.com/mwd9c8xa
[5] Ср. G. Giraud, Le mythe du ruissellement économique, в La Croix (https://shorturl.at/pKS93 https://bit.ly/3OV4uqM), 1 августа 2017 г.
[6] Этот вопрос, неизвестный широкой публике, иногда становится предметом дебатов. Ср. Z. Jakab — M. Kumhof, Banks Are Not Intermediaries of Loanable Funds — and Why This Matters, Bank of England, Working Paper No. 529, 2015; R. A. Werner, Can banks individually create money out of nothing? The theories and the empirical evidence, в International Review of Financial Analysis 36 (2014) 1–19; его же, How do banks create money, and why can other firms not do the same? An explanation for the coexistence of lending and deposit-taking, в International Review of Financial Analysis 36 (2014) 71–77; G. Giraud, Illusion financière, Paris, Éditions de l’Atelier, 2014, где содержатся два десятка ссылок.
[7] Тем не менее банки не могут создавать произвольное количество денег. По преимуществу они подчиняются правилам осторожности. Частные банки не могут создавать деньги для рассасывания собственных долгов, вследствие чего могут разориться.
[8] Некоторые экономисты утверждают, что этот избыток денежной массы в обращении может приводить к инфляции, но основываются на ошибочном толковании количественной теории денег: если бы эмиссия денег действительно вела к инфляции, следовало бы запретить банковские кредиты в любой форме. Ср. G. Giraud, Illusion financière, цит.
[9] Ср. E. Dabla Norris et Al., Global Public Debt Is Probably Worse Than it Looks, в Imf Blog (https://tinyurl.com/5eendump), 15 октября 2024 г.
[10] Ср. Groupe de la Banque mondiale, Remboursement de la dette publique: les pays en développement ont dépensé un montant record de 443,5 milliards de dollars en 2022, https://tinyurl.com/msaeuzr3
[11] Ср. OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE 2024, https://tinyurl.com/2v237hv7
[12] Ср. A. B. Abel — S. Panageas, Running Primary Deficits Forever in a Dynamically Efficient Economy: Feasibility and Optimality, NBER Working Paper 30554, 2024.
[13] Ср. New data show Global South is in worst debt crisis ever, with another lost decade looming, в Bretton Woods Project (https://tinyurl.com/5n83nsw9), 13 декабря 2023 г.
[14] Подъем ставок ФРС привлекает инвесторов к долларовым активам, провоцируя бегство капиталов из начинающих экономик и обесценивание местной валюты. В результате рушится экономика этих стран и растет государственный долг.
[15] Ср. J. Rising, Loss and Damage Today: How Climate Change Is Impacting Output and Capital, Newark, University of Delaware, ноябрь 2023 г. (https://tinyurl.com/yua9stzs).
[16] Ср. OXFAM, Inégalités climatiques: les 1% les plus riches émettent autant de CO2 que deux tiers de l’humanité, https://tinyurl.com/ut3d2u8m
[17] Ср. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Debt-for-climate swaps, https://tinyurl.com/432s747f
[18] Ср. S. Glendon, Ecuador’s $650 million debt-for-nature swap targets Galápagos protection, в Columbia Threadneedle Investments (https://tinyurl.com/dwvy5adp), 15 июня 2023 г.
[19] Ср. United Nations Development Programme, A new wave of debt swaps for climate or nature, https://tinyurl.com/3p5b67ec
[20] Ср. International Institute for Environment and Development, Debt swaps could release $100 billion for climate action, https://tinyurl.com/552w3j8m
[21] Ср. Ch. Nedopil — M. Yue — A. C. Hughes, Are Debt-for-Nature Swaps Scalable: Which Nature, How Much Debt, and Who Pays?, в Ambio 53 (2023/1) 63–78. См. также https://ecdpm.org/work/scale-debt-climate-swaps-infographic-three-ways
[22] Ср. R. Al-Mashat, Climate Financing That Puts People First, в International Monetary Fund, 2023, 14 сл.