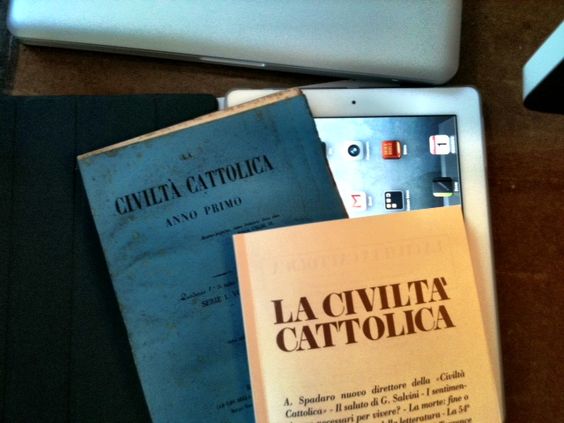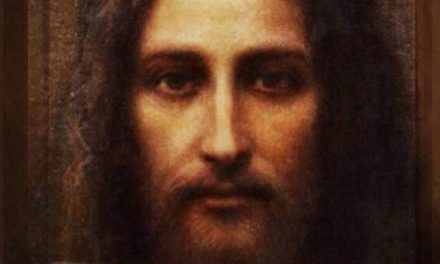Джованни Куччи SJ
Красоту часто считают чем-то чисто субъективным, якобы она связана с разными культурами, традициями, способами восприятия, привычками, представлениями о жизни. Однако, когда ее изучаешь, замечаешь четкие характеристики, присущие любой эпохе, любой социальной страте, например, гармония, обаяние, трансцендентность. Последняя поясняет парадоксальную роль художника, вынужденного «отпустить свое произведение», и тогда оно укажет автору неизвестную и непредсказуемую дорогу, а обнаружить, что она таит, можно только дав себя увлечь и пойдя по ней шаг за шагом.
***
Что такое красота?
Что такое красота? Нечто субъективное, относительное? Часто ее считают просто синонимом удовольствия: назвать некую вещь прекрасной — значит просто утверждать, что она нравится хотя бы кому-то. Якобы красота чисто субъективна, зависит от разных культур, традиций, способов восприятия, привычек, представлений о жизни.
Однако исследования в области психологии показывают, что люди, весьма разные по географическому положению, возрасту, профессии и общественному положению, очень близко сходятся в оценках, когда называют что-то или кого-то «красивым». По-видимому, чувство красоты — врожденное, невыученное, оно имеется у человека с раннего возраста; ребенок от шести месяцев явно выказывает расположение или отвращение, равно как и свои предпочтения касательно лиц, которые останутся в его глазах красивыми и на последующих жизненных этапах: «Дети и взрослые пользуются сходными критериями суждения. Итак, в совокупности эти результаты позволяют предположить наличие невыученных стандартов красоты […]. Наши суждения о красоте людей не подвержены влиянию обстоятельств; если, например, нам показывают изображения людей, и все они непривлекательны, это не значит, что мы склонны завышать свои требования. Справедливо и обратное»[1]. Эти выводы, поддержанные и другими исследованиями[2], опровергают общее заблуждение.
Но можно ли уточнить, что именно заставляет нас считать что-то или кого-то красивым? Древние связывали красоту с «гармонией» и «пропорцией» между целым и частями, как видно по скульптурам (пример — статуя Поликлета) и архитектурным сооружениям (таким как Парфенон). Эту гармонию и пропорцию обозначает так называемое «золотое сечение», то есть соотношение между общей протяженностью сегмента и его частью, выраженное числовым интервалом от 0,618 до 1,618. Что верно для монумента, столь же верно для лица, и оно воспринимается как гармоничное и прекрасное, когда демонстрирует данную пропорцию.
Эта догадка древних дожила до наших дней в подтверждение тому, что восприятие красоты — нечто врожденное: даже предметы, не имеющие отношения к искусству, например банковские карты, несут в себе те же пропорции золотого сечения. Исследования среди выходцев из самых разных мест и культурных кругов на предмет восприятия красоты в архитектуре и вообще в искусстве приводят к тем же выводам о врожденном, невыученном характере красоты: «Формы возвышенного производят, по-видимому, более интенсивное и приятное эстетическое впечатление, и не только на экспертов и компетентных наблюдателей»[3].
Многообразие красоты
В философской мысли, классической и средневековой, красота хотя и не числится среди так называемых «трансценденталий», то есть сущностных свойств бытия как такового (единое, истинное, благое), обычно с ними ассоциирована[4]. В самом деле, официально не входя в список, она способна выражать эти три основных аспекта жизни наиболее ярко, поскольку обладает уникальной, возвышенной и в то же время максимально конкретной силой притяжения.
Ведь красота имеет дело с чувствами и в то же время заключает в себе мощный символический посыл: предъявляет ценности и идеалы, которые нас покоряют именно потому, что они прекрасны. Видимое несет с собой вдобавок иное послание, и оно увлекает нас тем вернее, поскольку остается намеком, не высказано, как приглашение отправиться в путь, который не очерчен на карте, но заставляет сердце биться и ведет в иное измерение.
Кроме того, прекрасное, поскольку воздействует на органы чувств — прежде всего на зрение, — особым образом связано не только с эмоциями, но и с телесностью вообще. Отсюда сложная особенность красоты — способность обращаться с равной убедительностью и к высокому, и к низкому; двум столпам красоты служат прочной опорой два измерения бытия: тело и дух. Их шаткое равновесие выражает всегда ускользающую тайну красоты и ее свойство быть воплощенной ценностью. Благодаря этой сложности, всегда нестабильной и никогда не окончательной, прекрасное способно говорить о божественном как ничто иное, в то же время показывая его доступным человеческому опыту.
Греческий мир не только вычислил меру красоты, явленной в великолепных произведениях искусства, но и посвятил ей потрясающие размышления, считая ее прежде всего воззванием к человеку из сверхчувственного мира: этот мир дает себя познать косвенно, посредством знаков, которые волнуют сердце, возжигают желание полноты, в каком-то смысле постигаемой на жизненном опыте.
Согласно Платону, красота преимущественно связана с эросом, чья задача — привлекать человека к высшим реалиям. Эрос определен как демон, то есть существо между двумя мирами, человеческим и божественным, и мост для общения между ними: «Эрос — великий демон: ведь все демоническое расположено между смертным и бессмертным […]. И, находясь в середине между богами и людьми, он восполняет, чтобы все целое было крепко связано с самим собой. […] Бог не смешивается с человеком, но посредством этого демона боги связываются и беседуют с людьми, когда те бодрствуют или спят» (Симпозиум, 202 E–203 A). Вспомним знаменитый образ возничего в Федре, где эрос представлен как один из коней, которых кучер (душа) должен усмирить и направить, чтобы доставить колесницу к цели. Эрос у Платона содержит в себе этот трансцендентный элемент, служит путем к божественному. В тяжкой борьбе за управление душой эрос может быть укрощен, «обуздан», если найдет дорогу к небу, и красота — именно об этом.
Так и для Аристотеля Бог, высшая красота, привлекает человека любовью, приобщая, хотя и временно, к Своему блаженству: «Прекрасное и то, что само по себе желанно, находятся в одном ряду […]. От такого Начала зависят небо и природа. И Его образ жизни — превосходнейший: тот образ жизни, что нам дается только на краткое время. И в этом состоянии Он пребывает всегда» (Метафизика, XII, 7, 1072 a 34–1072 b 13–17). Хотя и критикуя Платона, Аристотель в конце концов приходит к тому же выводу: ведь, по его мнению, искусство — это, в сущности, подражание истинному, правдоподобный аспект бытия, характерный для поэзии и театральных представлений. Кроме того, искусство способно воспитывать и учить познанию благого и истинного, в силу той «круговой» концепции прекрасного, которая тесно связывает его с другими качествами бытия (ср. Поэтика, 1448 b).
Плотин подытоживает и доводит до конца мыслительные усилия классической Греции. В Эннеадах мы находим один из самых знаменитых трактатов о красоте. В согласии с вышеуказанным, она представляет собой причастность Абсолюту, с которым мудрец призван соединиться на пути аскезы, подобном отделке статуи; этот труд необходим, чтобы проступила наружу красота души, заключенной внутри: «Вернись в самого себя и смотри: если еще не видишь себя внутренне прекрасным, поступай как скульптор со статуей, которая должна стать прекрасной. Он отсекает, скоблит, шлифует, очищает, пока во мраморе не проявится прекрасный образ: подобно ему, и ты удаляй поверхностное, выпрямляй кривое, очищай темное и доводи до блеска и не переставай ваять свою внутреннюю статую, пока не явится тебе божественное великолепие добродетели и не увидишь воздержанность сидящей на священном троне […]. Глаз никогда не увидел бы Солнца, если бы не был уже подобен Солнцу, и душа не увидела бы прекрасного, не будь сама прекрасна. Итак, пусть каждый станет прежде богоподобным и прекрасным, если хочет созерцать Бога и Красоту» (Эннеады, I, 6, 9). Красота, познаваемая чувственно через искусство, увлекает в измерение сверхчувственного: через нее человек может получить опыт вечности во времени.
Таким образом, полярная пара душа–тело в красоте выражает двойной канал напряжения между небом и землей, телом и душой, временем и вечностью, конечным и бесконечным. Даже самые, казалось бы, банальные и болезненные переживания демонстрируют эту напряженность, поскольку соединены с надеждой иначе реализовать свой потенциал. Поэтому древние видели в красоте отражение добродетели, совершенства души, являемого чувственно: «Как в теле есть гармония между соразмерными чертами, в соединении с прекрасным цветом лица, называемая красотой, так для души единообразие и связность мнений и суждений, в соединении с определенной твердостью и неизменностью, вытекающей из добродетелей или содержащей саму суть добродетели, называется красотой» (Цицерон, Tusculanae disputationes, IV, 13, 31).
Красота притягивает к божественному и даже служит одним из самых подходящих ему имен: божественное — ее исток и гарантия стабильности. Ведь тварная красота, даже самая очаровательная, увядает со временем; она желает смысла и устойчивости, а значит — просит о причастности вневременной Красоте.
«Демократическое» измерение красоты
Красота обладает способностью, уникальной в своем роде, окликать и пленять всякого, кто «чувствителен» (то есть наделен органами чувств, а при надлежащем их воспитании — чувствительностью), независимо от его мировоззрения, экономического и общественного положения, образования и вероисповедания. В то же время красота способна являть, как многократно было отмечено, «иной» мир, отличный от того, что воспринимают органы чувств; она распахивает дверь в невидимое измерение, которому художник умеет придать форму, звук и слово, большей частью просто намекая, и через художника невидимое становится видимым. Красота вовлекает, но побуждает без принуждения, взывает к уму, свободе, доброму чувству и воле.
Это можно назвать «демократичностью» красоты, поскольку она желанная цель для каждого, способна привести к согласию тех, кто мыслит противоположно, и они сходятся в изумлении перед чем-то, воспринимаемым как прекрасное: «Человек приходит к искусству, истоптав бесконечное число дорог, исходя из очень разных теоретических предпосылок, часто прямо противоположных. История эстетики показывает, что художники, подвергаясь в разные времена влиянию самых разных, несовместимых идей об искусстве, создают произведения вопреки теориям, доказывая не бесполезность теорий, а то, что искусство, хотя и опираясь на культурный и интеллектуальный строй своего времени, все же обретается вне логических рассуждений»[5]. Даже тот, кто решил отвергнуть искусство, не может без него обойтись и пользуется им хотя бы как средством для выражения своей мысли.
Платон и тут остается показательным случаем. В Республике (книга X) он резко критикует поэзию, мифологию как «подражание подражанию», поскольку искусство подражает предметам, а те в свою очередь не что иное как подражание Идеям, подлинной реальности. Однако, когда нужно говорить о высших истинах, Платон полагается не на строгость логоса, а на яркость образов и повествований, составляющих, пожалуй, его самые возвышенные и впечатляющие страницы: миф о пещере, безумный полет души, плот в конце Федона, крылатая колесница в Федре. Можно с полным основанием утверждать, что Платон был художником, хоть и вопреки собственному желанию: искусство овладело им, подобно тому, что Аристотель говорит о философии, понимая под этим термином критическое понятие о целом, предшествующее любому утверждению (ср. Метафизика, I, 1). Таким же образом способность увязывать элементы гармонично, в светозарной и притягательной форме, присущая искусству, есть то, без чего не обойтись, когда речь идет о красоте.
Даже не желая признавать искусство ценным, придется против воли, подобно Платону, бороться с чем-то, что ведет «куда-то еще», прочь от моих концепций и идей: «Художник остается художником, невзирая на свои философские, идеологические, практические убеждения, искусство неподконтрольно ему самому и выходит за рамки его намерений и планов. Поэзия Данте укоренена в средневековом мировоззрении, основана на физике, астрономии, науке и даже астрологии своего времени — и, конечно, на богословии. Кафка, оставив в стороне почти всю дантовскую вселенную, создает в свою очередь высочайшие произведения искусства, укорененные в его эпохе и соответствующем мировоззрении […]. Отсюда великая сила художественного творения: оно переступает через идеологические границы, через построения практичного ума, через баррикады, воздвигнутые интересами, и проникает, вопреки тому, кто творит, и тому, кто читает, смотрит и слушает, в неконтролируемые пространства человеческой реальности, где все под вопросом и все возможно […]. Глупый эгоист Дон Аббондио, безумный Дон Кихот становятся доступны для чтения, а значит для безмерной любви, поскольку мы узнаем не о них, а их самих»[6].
Трансцендентность красоты
Отсюда трансцендентный характер красоты в искусстве: ее не удержишь в теоретических рамках и не положишь себе в карман. Она зовет в ту Трансцендентность, которая ничем не гнушается и доступна каждому, кто даст себя увлечь[7]. Даже если художник порабощен политической системой или партией, очень скоро он встанет перед ключевым выбором: служить идеологии или пойти вслед за художественным вдохновением, не зная куда. Книги, оправдывающие власть, всегда эстетически посредственны (пример — искусство реализма, как советское, так и фашистское: сколь его хвалили поначалу, столь же резко оно кануло в забвение), а если гениальны, создают немало трудностей режиму: в этом отношении показательна судьба романа Доктор Живаго.
Как заметил Йохан Хёйзинга, художественное проявление нуждается в свободе и невесомости; оно дестабилизирует, потому что таинственно и непредсказуемо; когда его хотят подчинить «другому» содержанию, чем жизнь и дух (то, что автор называет «святостью вещей»), оно вырождается и умирает. В этом смысле религиозность, горизонт, заданный «святостью вещей», относится к сути искусства, даже если автор не называет себя религиозным: «Символ сохраняет свою способность воздействовать на чувства только в силу святости вещей, им представляемых: как только символизм переходит из чисто религиозного пространства в исключительно моральное, он непоправимо вырождается»[8].
Но если и нет цензурного принуждения, писатель ощущает в самом себе невозможность заключить вдохновение в программы и схемы, заранее заготовленные. А когда пытается, что-то бунтует у него внутри: «Есть очень яркий пример поэта, добровольно служащего философской системе: Лукреций и эпикуреизм. Защита этой философии, глубоко прочувствованной и практикуемой, возвышает поэзию, а не принижает, и сливается с нею воедино. Однако то и дело Лукреций роняет вожжи своей программы и творит за ее пределами: поэма De rerum natura (О природе вещей) — не гимн безмятежности духа, достигнутой благодаря эпикуреизму, а драма беспокойства, отчаяния, изображение жутких кошмаров — ровно то, что поэт упорно намеревается изгонять поэзией»[9].
Нечто подобное заметно в работах Сада. Несмотря на неоднократные заявления о приверженности либертинскому манифесту, по мере того как разворачивается сюжет романов, ощущается смертный холод, и автор всячески пытается оживить повествование, но с обратным результатом. Тело бунтует, когда его пытаются возвести в абсолют или низвести до средства к получению удовольствия: «Углубляясь в чтение, замечаешь, что, несмотря на конвульсии главных актеров на авансцене, задний план наступает неотвратимо; несмотря на титанические усилия по разжиганию сладострастия, холод проникает и распространяется. Над миром физических страстей у Сада господствуют в итоге не субъекты — абсолютные либертинцы, а безличные Силы с большой буквы: Плоть, Зло, Судьба, Смерть. Не слишком удивляет их близкое сходство с „господствами” новозаветной космологии и антропологии»[10].
Рожденное, чтобы праздновать жизнь, либертинское движение становится именно садизмом, жертвой тоски от того, что не может заполучить желанную добычу, и, наконец, вырождается в насилие и смерть, в чем выражается неудовлетворенность удовольствием как самоцелью. В конце является, сея ужас, как в истории о Дон Жуане, Каменный гость[11].
Великий писатель смиренно признает, что если хочет описать героя, должен предоставить ему свободу действий, «дать ему жить», отделить его от себя и своих идей: «Персонажи — творение автора, зависят от него в своем бытии, действии, речи; в свою очередь, романист зависит от своих персонажей и должен уважать их. Некоторые писатели рассказывают, что внутренне слушают беседу своих персонажей скорее как зрители, чем как авторы; парадоксальным образом слушают свою фантазию. Один романист признавался мне, что ему пришлось умертвить одного из своих героев, потому что тот набирал силу и грозил подмять под себя весь роман […]. Никто лучше Пиранделло не описал, как растут персонажи в уме автора: уже не автор ищет себе героев, а „шесть персонажей” ищут себе автора, чтобы жить, действовать, говорить […]. Известно, что сказал Флобер: „Мадам Бовари — это я”»[12].
Так вышло и у Данте с описанием ада: он изображает персонажей, осужденных на вечную муку, а потому желает их порицать, но они вызывают симпатию, в них проглядывает человеческое величие. Приходят на память Улисс и знаменитая похвала знанию, описание нежной и трогательной любви Паоло и Франчески, «достойная гордость» графа Уголино. Как у Пиранделло, персонаж, описанный талантливо и искусно, обретает свою идентичность и самостоятельность, ускользая от намерений автора, и тот в конце концов вынужден идти за своими созданиями. В противном случае они будут только продолжением его мнений, мегафоном и витриной для его мыслей, но никогда это не станет поэзией, повествованием и искусством.
Эта способность и необходимость — для художника — «отпускать» свои создания, чуть ли не оплакивая их, но не втискивая насильно в готовую схему, — вот что называется «этической» природой искусства. Она в том, чтобы позволить герою быть, она в отказе от обладания. Так художник на опыте убеждается, что вдохновение исходит не от него, указывает неизвестную и непредсказуемую дорогу. И узнать, что эта дорога таит, можно только дав себя увлечь и пойдя по ней, шаг за шагом.
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] M. Costa — L. Corazza, Psicologia della bellezza, Firenze, Giunti, 2006, 5.
[2] Ср. J. H. Langlois et Al., Maxims or myths of beauty? A meta-analytic and theoretical review, в Psychological Bulletin, vol. 126, 2000, 390–423; B. G. Bardy — R. J. Bootsma — Y. Guiard (edd.), Studies in Perception and Action III, London, Routledge, 1995, 389–392; E. Hatfield — S. Sprecher, Mirror, Mirror…: The Importance of Looks in Everyday Life, Albany, State University of New York Press, 1986; M. S. Mahler, On the first three subphases of the separation-individuation process, in International Journal of Psychoanalysis 53 (1972) 333–338.
[3] M. Vannucci — H. Mühlmann, Le architetture del sublime. Un viaggio tra arte e scienza, в Psicologia contemporanea 39 (2012) 57. Ср. M. Livio, La sezione aurea. Storia di un numero e di un mistero che dura da tremila anni, Milano, Rizzoli, 2017.
[4] Фома Аквинский недвусмысленно причисляет красоту к характеристикам добра, понимая ее как гармонию между целым и частями: «Добро и красота в предмете — одно и то же, поскольку основаны на одном и том же, то есть на форме» (Sum. Theol., I, q. 5, a. 4).
[5] C. Lapucci, Estetica e Trascendenza, Siena, Cantagalli, 2011, 10.
[6] Там же, 10 и 50; курсив в тексте.
[7] Ср. G. Cucci, La bellezza, via all’Assoluto, в Civ. Catt. 2024 II 547–558.
[8] J. Huizinga, L’autunno del Medio Evo, Firenze, Sansoni, 1966, 291.
[9] C. Lapucci, Estetica e Trascendenza, цит., 11.
[10] L. Lombardi Vallauri, Corso di filosofia del diritto, Padova, Cedam, 1981, 607 сл.
[11] Эта тематика обсуждается здесь: G. Cucci, Il fascino del male. I vizi capitali, Roma, AdP, 2012, 287–296.
[12] L. Alonso Schökel, La parola ispirata. La Bibbia alla luce della scienza del linguaggio, Brescia, Paideia, 1987, 73 сл. Уместно процитировать блестящую страницу, где Пиранделло описывает, как общается со своими персонажами: «Создания моего духа, те шесть, уже жили собственной жизнью, а не моей, и я уже не властен был отнять ее у них. Так что, когда я упорствовал в желании изгнать их из моего духа, они, уже почти без всякой повествовательной поддержки, герои романа, чудом сошедшие со страниц книги, их содержавшей, продолжали жить сами по себе; улучали минуты в ходе моего дня и являлись ко мне, когда я был один в кабинете, и — то один или другой, то двое вместе — искушали меня, предлагали ту или иную сцену для постановки или описания, а из нее, дескать, можно извлечь такие-то следствия, и необычная ситуация вызовет новый интерес» (Л. Пиранделло, Обнаженные маски).