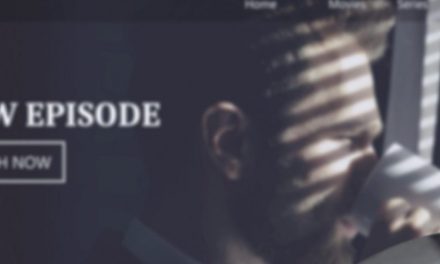Андреа Далл’Аста SJ
Великий венецианский скульптор Антонио Канова, чью двухсотую годовщину смерти мы отмечаем, — пожалуй, самый яркий представитель европейского неоклассицизма. Образованный и утончённый, востребованный при важнейших дворах Европы, он по-прежнему восхищает нас мраморными произведениями, образцами абсолютно совершенной формы, красоты, гармонии и в то же время чувственности. Если, с одной стороны, его скульптуры выглядят вневременными, с другой — им удаётся передать материи живое тепло. В нашем мире, где всё поставлено под вопрос, а искусство распадается на бесконечное множество эфемерных эстетических проектов, гармоничность его работ и поиск бессмертной красоты могут стать «беспрецедентным» горизонтом для наших глаз. Автор статьи — директор «Галереи Сан-Феделе» в Милане.
***
XVIII век: рождение нового мира
В Италии книги по истории искусства обычно соотносят окончание великой итальянской художественной эпохи, берущей начало от Джотто, с люминизмом Джованни Баттисты Тьеполо или изысканной неоклассической элегантностью Антонио Кановы (1757–1822)[1]. Действительно, в XVIII веке Италия постепенно сдаёт позиции главного «культурного двигателя», каким она веками была для Европы. Так, Рим, хотя и по-прежнему притягательный «вечный город», колыбель западной цивилизации и бессмертной «античной» красоты, вековая культурная столица, наследник греко-римской традиции, уступает культурное первенство Парижу, международной метрополии, которая всё увереннее стимулирует живые силы времени. Эпоха отмечена глубокими политическими и социальными трансформациями: с одной стороны, в XVIII веке монархия переживает триумф, с другой — падает под ударом Французской революции в 1789 году. Начало XIX века ознаменовано восхождением Наполеона, в 1815 году Венский конгресс реставрирует монархию, но времена меняются, и побеждает богатая буржуазия, предприимчивая и в культурном отношении — светская.
В XVIII веке, с триумфом Просвещения, решительно меняется культурный, духовный и философский климат: уже не доминирует религиозная проблематика, ставшая причиной глубоких разделений между европейскими государствами. Теперь на религию смотрят с подозрением, видя в ней источник ошибок и предрассудков. Да и с богословской точки зрения совершается радикальная перемена в размышлении о Боге. Конечно, Бога по-прежнему считают источником всего, часто называют «великим архитектором» вселенной, «вечным геометром», как пишет Вольтер, но Он уже не «конечная причина» всякой реальности, не цель, к которой всё устремлено. Бог — «действующая причина», равнодушная к судьбам мира и страданиям людей. Великолепный образ работы Андреа Поццо на фасаде церкви св. Игнатия в Риме: Пресвятая Троица всё привлекает к себе, как магнит, преодолевая законы природы, — уже отнюдь не актуален. Природный мир — больше не откровение Бога-Творца, Который заботится о человеке и обо всякой твари, а пространство, где разворачивается история человечества, достигшего автономии от Бога. Всё прочнее утверждается «светская» религиозность, согласно которой Бог не вмешивается в людские дела, но предоставляет жизни следовать своим курсом.
Рим, столица неоклассицизма
В течение XVIII века постепенно меняются и сюжеты, избираемые художниками. Традиционная иконография по заказу Католической Церкви уступает место светским темам или античным мифам, посредством которых богатая и процветающая буржуазия желает превознести себя, словно идеальную наследницу, способную нести дальше духовные и нравственные ценности этой традиции, как явствует из работ французского художника Жака-Луи Давида (1748–1825). Благодаря Антонио Канове и его выдающемуся датскому «конкуренту» Бертелю Торвальдсену (1770–1844), Рим становится точкой пересечения европейских усилий по новому осмыслению классического мира. Мифологические фигуры Дедала и Икара, трёх Граций, Амура и Психеи, Венеры, Адониса, Гебы, Геракла и Лихаса оживают таким образом в западном воображении, давая пищу мечтам и надеждам, ностальгии и желанию восстановить славный мифический мир, всегдашний предмет любви и восхищения. Античность вспоминают и заново постигают через классические темы: скоротечность юности, очарование и восторг красоты, обольщения и разочарования любви, трагическая неизбежность смерти. Суровое благородство, торжественная и монументальная основательность неоклассической архитектуры, ностальгия по античности и желание возродить её величие находят отражение в силе и славе новых национальных государств, которые решительно утверждаются в XIX веке, предвосхищая сегодняшние геополитические расклады.
Антонио Канова в поисках античности
В этой обстановке брожения на новых дрожжах Антонио Канова родился в Поссаньо, в зажиточной семье каменотёсов, знающих толк в обращении с камнем и в зодчестве. Его внимание, с самого начала учёбы, с ознакомления с гипсовыми копиями древних и современных статуй, обращено к античной культуре. Первые же работы — изображает ли он корзины с фруктами или античные мифы, например об Орфее и Эвридике (1773) для венецианской семьи Фалье, — обеспечивают ему успех. В особенности скульптура Дедал и Икар (1779)[2], примечательная ритмичной композицией и эффектами светотени, даёт своему автору пропуск в венецианский художественный круг: Канова избран членом престижной Венецианской академии.
После первых успехов, чтобы совершенствовать своё искусство и практическое мастерство, молодой венецианский скульптор отправляется в Рим (1779–80), непременный этап для любого художника, приступающего к работе с «античными» темами. Согласно его дневниковым записям, в Вечном городе он обнаруживает новый мир, состоящий «из статуй, колоссов, храмов, терм, цирков, амфитеатров, триумфальных арок, захоронений, лепнины, фресок, барельефов». Древний мир открывается его взгляду в свидетельствах славной цивилизации. Канова изучает английский и французский языки, читает греческих и латинских классиков, исследует греко-римскую мифологию, завязывает дружбу со многими самыми влиятельными на тот момент деятелями искусства и культуры, такими как Помпео Батони и Рафаэль Менгс. Очень скоро его пленяет неоклассический идеал Иоганна Иоахима Винкельмана (1717–68), убеждённого в превосходстве греческой цивилизации над римской, — классический идеал искусства, ставящего в основание гармонию, «благородную простоту и спокойное величие». Самая, пожалуй, популярная в XVIII веке древняя статуя, Аполлон Бельведерский, становится для Кановы своего рода откровением.
Меж тем путешествия продолжаются. В Неаполе Канову потрясает Капелла Сансеверо, в особенности Христос под плащаницей работы Санмартино и Скромность Коррадини. Канова пишет: «Неаполь, 2 февр. 1780. […] эта часовня полна статуй, там есть статуя под вуалью работы Коррадини с надписью […], гласящей: Antonio Corradino Veneto Scultori Cesareo et appositi simulacri vel ipsis grecis invidendi Autori qui dura reliquia hujus Templi ornamententa meditabatur obit A. MDCCLII”»[3]. Канова изучает коллекцию Фарнезе во Дворце Каподимонте, который тогда строился, и открывает для себя Помпеи, Геркуланум и Пестум; на этом пути в нём вызревают неоклассические идеалы. Статуя Тесей, побеждающий Минотавра (1781–83), выполненная по совету художника и коллекционера Гэвина Гамильтона, — «манифест» искусства, стремящегося всё полнее выразить идеальную красоту, которая есть ключ к пониманию неоклассицизма.
Погребальные памятники: классицизм и диалектика жизни и смерти
В 1783 году Канова получает заказ на надгробие папы Климента XIV для базилики Святых XII апостолов (1783–87) в Риме. Отложив в сторону классическую модель стелы или римского погребального памятника, венецианский скульптор избирает в качестве отправной точки композиционную структуру, которую Бернини использовал для надгробия папы Александра VII Киджи в базилике св. Петра в Ватикане, но возвышает, очищает и преображает её в спокойное, сосредоточенное размышление о смерти. Под статуей понтифика, стоящего наверху, с поднятой правой рукой, размещены аллегория Умеренности, склонённая над саркофагом с безмятежным лицом, и аллегория Смирения, которая, опустив голову и сложив руки на коленях, размышляет над участью человечества. В центре открывается таинственная дверь в загробный мир.
С 1783 по 1792 год Канова работает над погребальным памятником Клименту XIII для базилики св. Петра. Композиционная структура состоит из трёх уровней. На нижнем два льва охраняют доступ ко гробу, а по бокам размещены гений Религии и гений Смерти. На втором уровне поставлен саркофаг, а на третьем (на саркофаге) — развёрнутая диагонально статуя коленопреклонённого понтифика, который молится, сложив тиару наземь в знак смирения. Канова, по-видимому, не беспокоится о симметрии композиции, но очерчивает символический путь восхождения от низкого к высокому, от жизни к смерти. Через открытую дверь мы заглядываем во вневременное измерение.
Именно в эти драматичные годы торжествует Наполеон-завоеватель. 19 февраля 1797 года подписан Толентинский договор, принуждающий папу Пия IV отдать манускрипты и произведения искусства, такие как античные статуи Лаокоон и Аполлон Бельведерский. Это настоящий грабёж, и весь итальянский полуостров, бессильный перед военной силой, ошеломлён и растерян. С 1799 по 1805 год Канова строит в церкви св. Августина в Вене большое надгробие Марии Кристины Австрийской, по заказу Альберта Саксонского, герцога Тешенского, супруга покойной. Тема надгробия — архитектурная: главенствует геометрическая форма пирамиды, праотеческий погребальный символ. Памятник представлен как светлое пространство, «пронзённое» дверью, за которой угадывается бездонная глубина. Этот проём — как бы порог, ведущий к тайне. Композиция асимметрична, ритм — спокойный, размеренный. Медленно и печально шествуют аллегорические фигуры к тёмному порогу смерти. Завершает процессию пожилой мужчина с клюкой, слепой, его ведёт молодая женщина. Прах содержится в урне, которую держит другая женщина, рядом с ней две девочки. Всех персонажей объединяет цветочная гирлянда, нисходящая от урны. Все приглашены пройти по лёгкому полотну; расстеленное по ступеням, как неощутимое и тончайшее водное покрывало, оно символизирует преемственность между жизнью и смертью. Человечество неуклонно движется к смерти, зовущей каждого из людей направиться ко входу во тьму. Справа разместился крылатый погребальный дух (гений) с нежными чертами лица, он мягко опирается о спину лежащего льва, безмолвного охранника при входе. На высоте над похоронной процессией парит фигура Счастья; сопровождаемая крылатым купидоном в полёте, с пальмовой ветвью в руке, она держит медальон с высеченным на нём лицом Марии Кристины. Символ вечности — уроборос, змея, кусающая себя за хвост, обрамляет медальон с портретом императрицы.
Классицизм Кановы выражается здесь в напряжённой диалектике между жизнью и смертью. Перед лицом смерти угасает накал страстей, дальний шум истории удерживается на расстоянии. Словно вечный сон всё окутал своим покровом. Фактически, с пластической точки зрения, памятник Марии Кристине тематически соответствует стихотворному сочинению Фосколо Гробницы, написанному через два года после памятника Кановы. Тема смерти здесь истолкована в свете классики, любимой без памяти, остающейся неисчерпаемым источником далёкой и неуловимой красоты, щемящей и меланхоличной ностальгии. Канова, всё ещё размышляя над смертью, планирует далее памятник Тициану для церкви Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари в Венеции, но план не будет выполнен. Как и в случае с надгробием Марии Кристины, в отличие от предыдущих погребальных памятников, в этом замысле вместо саркофага и статуи усопшего — медальон, который несут два ангела.
«Амур и Психея», «Адонис и Венера» и «Геракл и Лихас»
Надлежит возродить совершенство древних. Путешествуя по Италии и видя работы венецианского скульптора, Гёте постигает намерение Кановы: «Ни глаз, ни ум не в силах объять их целиком […], пластическая форма не изображает, но возвышает природу». Это совершенство полностью «явлено» в скульптуре Амур и Психея (1793)[4]. Работа вызывает такой резонанс, что отныне заказы следуют друг за другом без остановки. Канова создаёт шедевры, такие как скульптурная группа Адонис и Венера (1798–95)[5], изображающая последнее прощание богини любви с Адонисом, и Геракл и Лихас (1795-1815)[6], плод внимательного переосмысления классических моделей.
Заказанная русским князем Николаем Юсуповым скульптура Амур и Психея[7] входит в число самых почитаемых произведений Кановы. Запечатлён момент перед поцелуем двух любовников: едва сдерживая восторг, они нежно созерцают друг друга, и взгляды говорят о том, что губы вот-вот соединятся. Изящно и утончённо-чувственно бог Любви спускается пробудить Психею, Душу. Прекрасная Психея, пробудившись, обвивает руками голову возлюбленного, словно коронует его. Всё тут — нежность и гармония. Любовь к красоте соединяется с красотой любви. Каждый элемент выполнен в ритме, родственном поэтическому, благодаря точной игре движений, напряжений и изгибов. Каждый отдельный жест передаёт динамику желания, пока сдерживаемого, и вот-вот движение свободно развернётся. Чтобы вполне оценить безупречно просчитанное равновесие композиции, нужно обойти вокруг скульптурной группы. При мягком свете материя словно теряет свой вес и свою косность, одушевляется и оживает. Мрамор предстаёт перед нами преображённым, возвышенным, лёгким, прозрачным. Конечно, тела любовников изображены в анатомическом совершенстве, и всё же их идеализированная красота необыкновенна. В особенности: очертания тел составляют извилистую букву икс, которая словно приподнимает скульптуру вверх, в пространство. Канова чертит пересечение изогнутых линий. Первая арка следует от верхушки левого крыла Амура и завершается мыском ноги, а вторая начинается с правого крыла и завершается мыском ноги Психеи[8]. Точку пересечения двух линий, фокус композиции, составляет трепетное объятие молодых персонажей. А руки любовников, составляя две сцепленных окружности, словно очерчивают магический круг, обрамляющий их прекрасные лица.
Канова, академии и «Венера Италийская»
С 1800 года Канова академик, а с 1810-го председатель Академии св. Луки. Эти новые успехи вводят его в число самых почитаемых художников, востребованных при европейских королевских дворах. Вот и Наполеон Бонапарт заказывает ему портрет. В Париже в 1801 году Канова изваял Наполеона в образе Марса-миротворца, несмотря на личную неприязнь к тому, кто предал Венецианскую республику — уступил её Австрии согласно Кампоформийскому договору (1797), предварительно разграбив её богатства и произведения искусства. Восхождение Кановы продолжается без остановок: он становится членом Миланской академии изящных искусств и «генеральным инспектором всех изящных искусств в Риме и Папском государстве, с надзором над Ватиканским и Капитолийским музеями и над Академией св. Луки». Чтобы восполнить утрату Венеры Медицейской, перемещённой во Францию, в Лувр, в результате наполеоновских грабежей, Канова высекает для города Флоренции Венеру Италийскую (1804–08), интерпретируя классический сюжет Venus pudica: богиня прячется за покрывалом — возможно, чьё-то посещение застало её врасплох. Статуя была размещена в зале «Трибуна» галереи Уффици[9]. Этой работой Канова желает пробудить дух греко-римских образцов: наделённая мягкой нежностью плоти, статуя как бы мерцает в пространстве; автор избегает ярких светотеней и осторожно очерчивает тело посредством тонких световых переходов.
Академические почести множатся: Канову признают Академия изящных искусств во Флоренции (1791); живописи и скульптуры в Стокгольме (1796); живописи и скульптуры в Вероне (1803); в Венеции (1804); в Сиене (1805); в Лукке (1806). В Европе: скульптор принят в Петербургскую академию (1804), Женевскую (1804), Датскую (1805) и в академии Граца (1812), Марселя (1813), Монако (1814); кроме того, в Нью-йоркскую (1817), Антверпенскую (1818), Вильнюсскую (1818) и Филадельфийскую. Коротко говоря, Канова — самый прославленный и почитаемый скульптор во всей Европе.
Портрет Полины Боргезе: любовь к совершенству
Канове прибавляет престижа портрет Полины Бонапарт, сестры Наполеона и супруги принца Камилло Боргезе, в образе Венеры Победительницы. Скульптура, выполненная в 1808 году, изображает женщину, полулежащую на элегантной кушетке-агриппине (своеобразный шезлонг в имперском стиле, тогда очень модный), согласно типологии этрусской урны: усопший участвует в заупокойном пиршестве, растянувшись на ложе-клинии. Полина держит в руке яблоко победы: она прекраснейшая из богинь, по выбору Париса. Виртуозность техники и совершенство формы возводят Полину в достоинство богини. Это идеальный портрет; более того, Канова превращает Полину, широко известную и обсуждаемую за свободный и светский нрав и за страсть к празднествам и роскоши, в икону неоклассицизма.
Венецианец создаёт эту скульптуру после долгого размышления, о котором свидетельствуют множество подготовительных рисунков и гипсовый оригинал, хранимый в Гипсотеке в Поссаньо, демонстрирующий многочисленные «точки», то есть ориентиры, необходимые для исполнения мраморной скульптуры. Причём эту процедуру Канова предоставляет своим ассистентам, а его рука — «последняя» в работе, то есть за ним — та удивительная полировка, долгая и терпеливая, с утончением шлифовки, которая и создаёт эффект «настоящей плоти», усиливаемый в глазах зрителя светом свечи. Это — секрет его искусства, восходящего к совершенству в той «отделке», с какой он калибрует световые эффекты. Так же задуман и изумительно выполнен матрас, мягко утопающий под весом женщины. Этот эффект напоминает изысканность матраса, созданного другим скульптором, Бернини, для античной статуи Спящий гермафродит, принадлежавшей Камилло Боргезе, перетолкованной в неоклассической манере и затем уступленной Наполеону. Портрет Полины Боргезе — возможно, один из лучших образцов кановианской эстетики. Трепещущая и полная жизни, статуя предназначена для кругового осмотра. Да, Канова планировал свои скульптуры так, что созерцать их можно не только лицом к лицу, но и поворачивая на все 360 градусов. Поэтому статую вращали на специальном пьедестале, а зеркала, расставленные по комнате, позволяли видеть её одновременно с разных сторон.
Метод работы художника: секрет «команды»
Канова принимает впечатляющее количество заказов, требующих недюжинной способности планировать и организовывать. В этом смысле он настоящий промоутер для самого себя, предприниматель, на которого трудится команда, хорошо подготовленная и весьма эффективная, выполняющая точный рабочий план.
Канова создаёт скульптуру в три этапа: сначала замысел, затем перенос гипсовой модели в мрамор и финальная стадия, на которой художник наносит последние штрихи, и творческий процесс достигает небывалых высот. Перед ваянием Канова делает быстрые эскизы или наброски на бумаге или холсте. На втором этапе он лепит маленькие подготовительные прототипы из глины, используя несущий каркас — железный стержень той же высоты, что и скульптура, соединённый с конечностями посредством маленьких металлических планок с деревянными крестиками. Как пишет сам Канова, этот метод позволяет ему «удерживать глину даже в очень больших конструкциях и в нависающих фигурах», позволяя оценивать пропорции, световые эффекты и то, как скульптура живёт и дышит в пространстве.
Этот сложный метод работы описан в Моих воспоминаниях художника Франческо Айеца: «Канова лепил модель из глины; затем, выполнив её из гипса, передавал мраморную глыбу своим молодым ученикам, чтобы они её обтесали начерно, и тогда уже начиналась работа великого мастера. […] Они доводили скульптуру учителя до такой степени точности, что можно бы считать её завершённой, но оставляли тонкий лишний слой, и блестящий художник затем обрабатывал его как считал нужным. Студия состояла из многих комнат, все полны моделей и статуй, и сюда всем дозволялось войти. У Кановы была отдельная комната, закрытая для посетителей, куда входили только те, кто получил специальное разрешение. Он носил что-то вроде халата, на голове бумажный колпак, и всегда держал в руке молоток и долото, даже принимая гостей; разговаривал во время работы и вдруг прерывал работу, обращаясь к собеседникам».
Итак, Канова делегирует полномочия своим сотрудникам, и они переносят его модель в мрамор. Процесс сложен и хорошо документирован. Ассистенты подготавливают мраморную статую, как пишет скульптор Леопольдо Чиконьяра в своей Истории скульптуры, а Канова оставляет за собой последнюю огранку: «Последняя рука […] творит самое интересное, а именно — то, что приводит произведение к полному совершенству, очерчивая последнюю безупречную линию; в поверхности кроется высочайшее мастерство, и благой замысел увенчивается истинно превосходным исполнением».
Канова тщательно устраняет погрешности, если они есть, завершает статую последними решительными движениями, за чем следует полировка, и поверхность становится гладкой, обретает прозрачное сияние — и зритель заворожён красотой материи. В качестве последней отделки, Канова проливает на мрамор воду, использованную для охлаждения металлических инструментов, обтачиваемых на шлифовальном круге[10], что придаёт поверхности ещё больше сияния. Наконец, художник наносит на «кожу» статуи особый лак телесного цвета, сообщая своему произведению живое тепло. А мы поражены совершенством форм и в то же время излучаемой ими чувственностью. Это очень далеко от холодной строгости иных неоклассических скульптур, ледяных и неподвижных, чьи авторы прилежно учились в школе античности.
Таков путь от изначальной интуитивной догадки художника к созерцанию окончательной чистой формы. Как видим, связь с классическим миром не ограничивается внешним воспроизведением иконографических мотивов. Античность — это смысловой горизонт, мир непревзойдённого совершенства, и художник, обращаясь к ней, переосмысливает мечты настоящего времени. Воспроизведение античности — не механическое копирование элементов: нужно войти в дух античности и постичь тайну красоты, вызывающей любовь и восхищение. Как пишет Канова, «понадёргать того и сего из древностей и бездумно составить вместе — не в этом доблесть великого художника. Надо изучать днём и ночью греческие образцы, проникаться их стилем, закладывать его себе в голову, из него составить свой собственный стиль, всегда держа перед глазами прекрасную природу и находя в ней те же правила».
Канова и наполеоновские грабежи
Тем временем Наполеон продолжает бушевать на полуострове со своими завоеваниями. Никакое сопротивление французскому нашествию не представляется возможным. Канова бессильно наблюдает за оккупацией Рима (1808), в результате которой Папское государство аннексировано Французской империей. Несмотря на эту обиду, в 1810 году скульптор отправляется в Париж, где генерал Дюрок заказывает ему статую императрицы Марии Луизы, будущей Пармской герцогини. Вернувшись в Италию, Канова останавливается в Милане, Болонье и Флоренции, откуда пишет искусствоведу и теоретику архитектуры Катрмеру-де-Кенси (1755–1849): «Знайте, что император оказал мне милость […], пригласив переселиться в Париж к Его Величеству даже и навсегда, если я соглашусь. Итак, я сейчас туда отправляюсь, чтобы поблагодарить щедрого государя, почтившего меня таким благоволением, и умолять о дозволении остаться в моей студии, в Риме, с моими привычками, в моём климате, без которого мне смерть, с самим собой и со своим искусством. Поэтому я еду, чтобы изготовить портрет императрицы, и не с иной целью, надеясь, что Его Величество великодушно отпустит меня в мою мирную обитель, где у меня столько работ, и колоссов, и статуй, и занятий, непременно требующих моего присутствия, и без них мне не прожить и дня».
После лейпцигского поражения (1813), когда удаче Наполеона пришёл конец, Канове поручено забрать из Парижа произведения искусства, изъятые согласно Толентинскому договору. Несмотря на сопротивление французов и русских, благодаря участию Клеменса фон Меттерниха, австрийского дипломата, игравшего центральную роль в европейской политике того времени, Канове удаётся вызволить из плена большинство произведений искусства. Прибыв в Рим вечером 3 января 1816 года, он получает аудиенцию у понтифика, и тот, в знак благодарности за возвращение украденных шедевров, назначает его «маркизом Искии [Кастро]» и вписывает в Капитолийскую Золотую книгу. В качестве герба маркиз Канова избирает лиру и змею, символы Орфея и Эвридики, «в память о моих первых статуях […], с которых […], должен признать, начинается моя гражданская жизнь», — поясняет он в письме к Фалье.
«Три Грации»: триумф грации и гармонии
В 1814 году Жозефина де Богарне, первая жена Наполеона, заказывает Канове скульптурную группу Три Грации, которая будет воспроизведена вторично для Джона Рассела, VI герцога Бедфорда. Это одно из самых знаменитых творений Кановы: посредством мрамора изображена изысканно-неоклассическая концепция безмятежной и вневременной красоты, грациозной и бессмертной. Идеальную красоту, запечатлённую в лицах трёх девушек, воспевает поэт Уго Фосколо в Гимне Грациям, посвящённом Канове: «… ко смутному обряду / приди, о Канова, и к гимнам. […] / Возможно (о, надеюсь!), создатель божеств, / со мною придашь ты новый дух Грациям, / под твоею рукой восстающим из мрамора»[11].
Как если бы речь шла об изображении прекрасного и доброго в космическом порядке, вся композиция здесь дышит грацией и гармонией. Изысканное пространственное решение — объятие трёх девушек, лёгкое движение: от скрещенных ног до интенсивной игры взглядов, от изящного скольжения рук до ритма, создаваемого изысканным убранством волос. Скульптура излучает тонкий эротизм, усугубляемый благодаря лёгкой драпировке, что вьётся меж фигурами, касаясь паховой зоны, словно играя: то прикрывая, то обнажая.
Храм в Поссаньо и смерть Кановы
В 1818 году Канова, которого земляки уговаривают озаботиться судьбой старой приходской церкви в Поссаньо, принимает решение построить новую на собственные средства. И возводит классический храм с круговой планировкой, с портиком из дорических колонн, взяв за образец римский Пантеон. Строительство будет завершено только в 1830 году, почти через 10 лет после смерти автора.
На этом — последнем — этапе жизни Канова продолжает творить. Упомянем конную статую Карла III и — только начатую — Фердинанда I, для площади Плебисцита в Неаполе. Канова умер 13 октября 1822 года в Венеции. Его останки захоронены в Поссаньо, в храме, построенном по его проекту, а сердце в порфировом сосуде хранится в Венеции, в базилике Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, где установлен надгробный памятник скульптору.
При жизни Канова достиг величайшего успеха, в Италии и по всей Европе. Мало того, во время Рисорджименто его почитают как покровителя зарождающейся Италии. Если в начале XX века, в эпоху авангардистских потрясений и протестов, его считают усталым и холодным подражателем античности, то благодаря исследованиям Хью Онора и Марио Праца с середины века начинается его постепенное возвращение, и наконец он признан главным представителем неоклассицизма. Его даже считают связующим звеном между древним миром и современным восприятием; он — тот, кто способен внедрить новые эстетические каноны. Бесспорно, Канова — исключительный художник своего времени. В сегодняшнем мире, где почти всё поставлено под вопрос, а искусство распадается на бесконечное множество эфемерных эстетических проектов, совершенство формы, гармоничность его произведений, поиски бессмертной красоты могут стать «беспрецедентным» горизонтом для нашего взгляда.
***
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Антонио Канова — герой многочисленных исследований, например: G. C. Argan, Antonio Canova, Roma, Bulzoni, 1969; Id., L’ arte moderna. Dall’illuminismo ai movimenti contemporanei, Firenze, Sansoni, 1988; M. Praz, Gusto neoclassico, Milano, Rizzoli, 1990; H. Honour — P. Mariuz (edd.), Edizione nazionale delle opere di Antonio Canova, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1994; R. Varese, Canova. Le tre Grazie, Milano, Electa, 1997; G. Pavanello — G. Tormen, Antonio Canova, Roma, Gruppo editoriale L’Espresso, 2005; G. Cricco — F. Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Dal Barocco al Postimpressionismo. Versione gialla, Bologna, Zanichelli, 2012; F. Piscopo, Echi canoviani, Crespano del Grappa (Vi), 2016; его же, Bianca Milesi. Arte e patria nella Milano risorgimentale, там же, 2020; M. L. Putti, Canova. Vita di uno scultore, Roma, Graphofeel, 2020.
[2] Сегодня в музее Коррер в Венеции.
[3] M. F. Apolloni, Canova, Firenze, Giunti, 1992, 6.
[4] Музей Лувра, Париж.
[5] Музей искусства и истории, Женева.
[6] Национальная галерея современного искусства, Рим.
[7] Эрмитаж, Санкт-Петербург.
[8] Ср. G. Cricco — F. Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro…, цит., 1406 s.
[9] В настоящее время хранится в Палаццо Питти во Флоренции.
[10] Ср. M. Missirini, Vita di Antonio Canova, Roma, Universitalia, 2016, 117–119.
[11] U. Foscolo, Le Grazie, Inno primo.